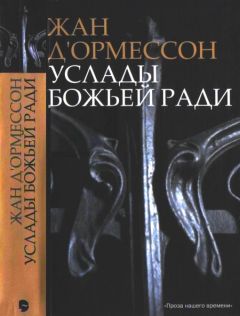Опираясь на руку Пьера, дедушка вышел вперед. Первым в ряду стоял старый садовник. Дедушка поговорил с ним о его отце и деде, таких же садовниках, как и он, о его умершей внучке, о пальме, которую он с ней пытался вырастить в средней полосе Франции. При второй же фразе старик, в праздничной одежде, разрыдался. Дедушка тоже плакал. Они обнялись и стояли так, обнявшись, несколько секунд. Дед обнял по очереди всех, кто пришел сказать нам, что мы им дороги, что они не испытывают или больше не испытывают к нам неприязни, потому что из-за нашего несчастья они увидели теперь нас с другой стороны, обнял и почтальоншу, и монашенок, и начальника пожарного отделения, и учителя. Сцена была волнующей. Все плакали. Дедушка, утомленный, растерянный, то и дело вытиравший слезы, уже почти не понимал, где он и что происходит. Подойдя ко мне в момент, когда я разговаривал с секретарем мэрии, он не сразу узнал меня и спросил грустным голосом, давно ли я здесь и не знал ли я случайно его отца. Я ответил, что приехал совсем крошечным, что знал почти всех и что собираюсь написать воспоминания о прошедших временах. Клод рассмеялся каким-то неестественным, страшным смехом. Была минута, когда за нашим крушением замаячил призрак безумия.
Небо за окнами потемнело. Заканчивался наш последний день в Плесси-ле-Водрёе. Вот-вот должна была наступить ночь. Сторожа и садовники, все, кто жил с нами рядом многие годы и с кем нас связывали не укладывающиеся в марксистскую теорию узы, наши слуги, наши друзья стали один за другим расходиться. У Гайдна есть одна симфония, при исполнении которой музыканты по очереди уходят с эстрады, задувая свечи, освещавшие их ноты. И сцену, живую и радостную, которая постепенно погружается во мрак и безмолвие. Впервые исполненная в 1772 году для наших родственников Эстергази, она так и называлась «Прощальной», и воссоздавала атмосферу нашего старого замка. Мы и раньше понимали, что он переживет нас и будет стоять еще долго, что каменный стол не провалится в бездну, как только мы уйдем. Но без нас и камни, и земля, и деревья могли жить только такой же унылой, лишенной смысла жизнью, как и мы без наших деревьев, без нашей земли и без наших камней. Системы распадаются потому, что они являются системами. Но поскольку они были системами, составлявшими их, элементы еще долго остаются не использованными после их распада. Лишенные связей и смысла, они с трудом организовываются вновь. И удается им это лишь тогда, когда они составляют новые системы, столь же гениальные и столь же несправедливые, как и предшествующие, — разве только что немного более гениальные и немного менее несправедливые, которые тоже, в свою очередь, распадутся. Вот это и есть история, где, подобно тому, как в физике, волновые теории чередуются с корпускулярными, можно увидеть и этапы движения сознания к своей вершине, и невнятный, более или менее лишенный смысла и уж, во всяком случае, имеющий больше общего с иллюзиями, чем с прогрессом, набором форм, эволюций и циклов.
Теперь мы ходили по кругу. Все свершилось. Бернар рассказывал, как один из возчиков распространялся в разных кафе и бистро о лицемерных сценах в замке. Клод был довольно близок к такой точке зрения. Волей-неволей он принадлежал к нашему порядку и был солидарен с нами, особенно в тот момент, когда этот порядок расшатывался. Но когда он смотрел на нас извне, то весь этот набор поз и умилений, все эти попытки спрятать под эмоциями если не интересы, то ситуации вызывали у него реакцию отторжения. Он обнимался меньше, чем дедушка. Плакал тоже меньше. Может быть, потому, что был моложе. А может, потому, что считал наш отъезд, в конце концов, делом грустным лишь для нас, но не для тех, кто оставался, — не для садовников, сторожей, учителя или почтальонши. Возчик, которого видел Бернар, повторял, что ни к чему оплакивать хозяев, которых наконец-то постигли невзгоды после стольких лет удач, и что есть масса людей, более несчастных, чем мы, к тому же несчастных с давних пор. Видимо, чтобы смягчить переживания дедушки, Клод сказал ему, что этот не любивший нас возчик в чем-то был прав, что нас всегда сопровождало везение, тогда как другие, менее везучие, несчастны до сих пор. Дед помолчал, подумав, возможно, о тех, кому всю жизнь не везло. «Они не хотят больше, чтобы у них были хозяева, — проговорил он тихо. — Ну что ж, у них будут владельцы». Клод развел руками в знак несогласия и бессилия. Он не хотел в тот вечер продолжать дискуссию, которая была ему во всех отношениях неприятна, поскольку чувствовал себя не только бессильным, но и связанным по рукам и ногам, зажатым между чувствами, рассудком и историей. Так или иначе, но мы уезжали.
Машины ожидали нас в большом парадном дворе, видевшем и наши кареты, и танки немцев, и много других приезжавших и уезжавших транспортных средств. На этот раз мы уезжали без надежды на возвращение. После стольких усилий и арьергардных боев мы не знали, как употребить тот малый отрезок времени, который у нас оставался. Скорее инстинктивно, чем осмысленно, каждый по-своему использовал последние минуты того сновидения, которое вот-вот должно было разбиться вдребезги, и в этот последний момент, в минуту вынужденного бездействия, обнаруживал наконец свои тайные предпочтения, истинные привязанности, все, что в катастрофе причиняло ему наибольшую боль. Дедушка пошел посидеть один за каменным столом среди дорогих ему усопших. Филипп отправился на псарню и в конюшни, где давно уже не было ни лошадей, ни собак. Пал и жеребец Мститель. И хорошо. Филипп бродил среди воспоминаний, ушедших раньше нас. Пьер и Клод сели в машину и поехали на десять — пятнадцать минут погулять еще раз среди прудов и дубрав, вспомнить купания, велосипедные гонки, пулеметы и любовные похождения юности. Вернулись они молчаливые и сразу же стали давать последние распоряжения к отъезду. Я обошел в последний раз — как часто за последние месяцы употребляли мы это выражение «в последний раз!» — все места, где прошла наша жизнь, места настолько приглядевшиеся, что мы их даже не замечали: мраморную лестницу, бильярдную, мрачную анфиладу залов с очень высокими потолками, обе столовые, библиотеки, где я провел столько часов, столько дней, с бьющимся сердцем, читая лежа разбросанные по полу книжки, большую комнату на первом этаже, где мы развешивали ружья под рогами оленей с таинственными надписями, сообщавшими, где, как и кем была убита та или иная особь.
Я, как в церкви, вдыхал этот несравненный запах, переживший и разбросанные по миру наши картины, и распроданную мебель, запах былого, запах дерева, легкий запах плесени и любви, от которого кружилась голова. Я как заведенный бродил между воспоминаниями, накопленными за сорок лет и за восемь веков привидений. Надо было попытаться сохранить в себе эти краски, эти звуки, эти выходящие на парк окна, эти далекие шумы, этот мимолетный аромат, и я пытался проникнуться ими, открыть всего себя тому, что было нашей жизнью, чтобы не дать ей ускользнуть в небытие и исчезнуть бесследно. Я запасался воспоминаниями. Вот так, думая о будущем, окунался я в прошлое.
Кто-то во дворе уже звал меня. Я открыл окно: Пьер, Клод, Филипп, Натали и Вероника, окружив дедушку и тетю Габриэль, подавали мне знаки спускаться. И передо мной пронеслись вечера прошлых лет, те, о которых мне рассказывали близкие, и те, которые я запомнил сам, увидел Бориса, вдруг появившегося среди скрипачей и танцоров, еще не нашего века, увидел, как дед раскладывает пасьянс, вспомнил визиты настоятеля и господина Машавуана, вспомнил, как первый раз появился у нас Жан-Кристоф, как напряженно держался г-н Дебуа, вспомнил свадьбы и балы, обеды и выпады дедушки против правительства, вспомнил наше ожидание новостей в годы испытаний, появление в гостиной полковника фон Вицлебена, услышал смех Юбера и молчание Клода, услышал рычание танков и шепотом передаваемые слухи о приключениях Пьера, о метаморфозах тети Габриэль, о невзгодах Мишеля Дебуа. Не здесь ли, не под этими ли высокими потолками огромных комнат разыгрывалась судьба мира — во всяком случае, для меня, поскольку я жил здесь и видел все именно отсюда. Я быстро спустился, проходя сквозь вихрь событий и траурный кортеж пустых гостиных. Я закрывал за собой все двери. Я выходил. Во дворе я увидел три машины, три механизированных инструмента услады Божьей: два «пежо» и еще «рено». С уже заведенными моторами.
Раздался смех, смеялся Бернар. Господи, что же могло его рассмешить? Я сел рядом с дедушкой в головную «пежо», за рулем которой сидел Филипп. Поехали. Никто из нас не оглянулся. Все осталось позади. Перед нами открывалась новая жизнь, жизнь как у всех.
В нескольких сотнях метров от замка дорога слегка поднимается в гору. С одного из ее поворотов открывается один из самых красивых видов на Плесси-ле-Водрёй. Когда «пежо» подъехал к этому месту, дедушка попросил Филиппа остановиться. Тот посмотрел на меня: не начнется ли сейчас драма? Дедушка вышел из машины и несколько минут смотрел не на то, что мы видели из окон замка, не на липы и каменный стол, а на то, что видели посторонние, приезжая к нам или уезжая от нас. Ночь еще не наступила, но потемки сгущались с каждой минутой, гася последние остатки света. Замок удалялся во времени, в пространстве и в освещении. Дедушка смотрел. Я не смотрел на замок. Смотрел на деда, стоявшего со взглядом побежденного. Подъехал второй «пежо», с Клодом за рулем. Он не вышел из машины. Я чувствовал во всем его облике какую-то напряженность, почти враждебность. Гримасы продолжались? Да, страдал он не меньше нас, но ожидание нового мира влекло его вперед, к будущему, запрещало ему оборачиваться на каждом шагу на прошлое. Подъехал и «рено». И тоже остановился. Пьер вышел, подошел к дедушке и неподвижно постоял рядом, глядя, как исчезает в потемках замок. Я отступил немного назад. Удивительная сцена: в самый критический за всю свою историю момент семейство смотрело глазами старейшины на себя и на свое прошлое. Пьер обнял старика, двинувшегося к нам. «Поехали», — сказал дедушка. И сел в машину.