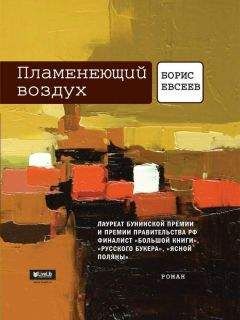Держась за грудь, кашляя, Фомин Сашкины задумки хвалил. Нравилось ему и Капнистово либретто. Анакреонтический строй будущей оперы оживлял воображение. Правда, когда кашель и хрип отступали, и в либреттке, и в самой задумке оперы обнаруживалось множество несовершенств.
Молодой Плещеев просил:
— Ты, Евстигней Ипатыч, задай мне тону! Да свяжи в пучок концы веревочек оперных. Чую: погрешностей против правил — бездна!
— Так ведь в опере связки — едва ли не самое трудное. А коли неча связывать? И потом, опять скажут: Плещеев оперу сочинил, а Фомин ее и подтибрил!
Евстигней Ипатыч пытался смеяться. Однако бронхи и легкие, издырявленные как сыр (досадою, едкой влагой), смех выплескивали крохкий, рваный. Иногда глухой, замогильный.
— Да я первый, Евстигней Ипатыч, на весь мир объявлю: не кто иной, как ты, сочинил «Клориду». А я только мысль подал! — не отступал Плещеев.
— Эх, Сашка! Знаешь ведь: мне чужого не нужно. Я и свое добро все начисто по чужим роздал. Про «Мельника» моего тебе известно. А были ведь и другие оперы. Едва ли не двадцать их я сладил! Годами и месяцами, от стыда сгорая, за других сочинял!..
— Да ведь мои «Клорида и Милон» без твоего имени гроша ломаного не стоют. — Сашка растерялся. — Как же быть-то... Так я наброски завтра представлю?
— Тебе бы вот чего... Тебе бы от сего Капнистова анакреонтства отчалить да к другому берегу прибиться. Нечто вроде вывернутой наизнанку Энеиды, да не Осиповской, а малоросса... Котляревского... — ну, слыхал, небось? — сочинить:
Эней был парубок моторный
И хлопец, хоть куды казак,
На зло удался он проворным,
Проворнейшим из всех бурлак...
Но зла Юнона, сучья дочка,
Раскудкудахталась, как квочка...
— Да ведь Капнист мне, как родной. Как отвязаться! Приспособь ты к Капнисту свое уменье, славой Иисусовой тебя, Евстигей Ипатыч, молю!
— Что еще за «слава Иисусова» такая? Опять езуитствуешь, Сашка?
Сил упираться, впрочем, не было. Сашку Фомин любил. Отчего — не знал сам. Вспоминал, как познакомились, как еще ребенком с родителем приехал Сашка на первое представленье «Орфея». И Сашка, и родитель небось думали: Фомин ничего не видит, не замечает. А он, начиная увертюру, боковым зрением их-то как раз и приметил. Малый ему сразу понравился. Да что теперь! Был бы малец его собственный — уж тогда другое дело...
Решено было сочинять «Клориду» по Сашкиным наметкам.
Не с тою быстротой, как раньше, а все ж таки в положенный срок опера приблизилась к завершению. Тут Плещеев-младший заговорил по-иному:
— Ты моей опере, Евстигней Ипатыч, имечко вроде ссудить собирался. Так я более не настаиваю. С твоими поправками я, пожалуй, сам оперу до ума доведу.
Здесь, однако, нашла коса на камень:
— С поправками? Так ведь я не поправки делал! Я всю оперу от начала до конца в партитуру вплел. Давно оперы мои чужими именами позорят! Сам сию оперу начал — сам и кончу… А из темок твоих музыкальных взял я, Александр Алексеевич, только две. Так и те полностью выправил! И еще запомни, Сашка: я не раб музыкальный!
— Вот тут ты Евстигней Ипатыч, ошибся! Раб! Как есть — раб! — Сашка пытался обратить все в смех.
— Это ты, Сашка, раб. Раб своей музыкальной страстишки. А я… я музыке своей — полновластный хозяин.
Сашка смеяться кончил, осердясь, ушел.
Фомин же, словам своим обрадовавшись, оперу легко довершил.
«Только зря, видно, спешил… — потирал он взбухшую от расстройства нервов левую бровь. — Вот, кончил оперу. А отодрать от нее Сашкино имечко сил и недостанет...»
Наставал последний акт музыкальной драмы!
Многие — и в их числе Николай Михайлович Карамзин, историограф — с гордостью повторяли: молодой Плещеев завершил «Клориду и Милона».
В ту же дуду дул и Василий Капнист...
(В письмах и в разговорах Капнист иногда аттестовался как врун. Милый, талантливый, но врун. Оттого-то Николай Александрович Львов — правдивейший! — так на одной из Капнистовых рукописей и начертал: «А вот за это бестию — кнутом! Не ври, Капнист, не ври!»)
Сладко подвирал Капнист и про уже ему известную музыку «Клориды».
В рьяном карамзинско-капнистовом сопровождении — в Сашкино авторство поверили с охотой.
Да и как не поверить? Плещеев свой, дворянин. И хотя спесь дворянская тем же Карамзиным осуждалась, а все-таки, а все-таки...
К тому же: как это исторически справедливо, своя, российская — а не в каких-то болониях взращенная — поросль, серьезны оперы просвещенной публике являет!
Ну а что имеет к опере некое отношение Евстигней Фомин — свистящее ядром имя, выбило из припоминавшего двойное содроганье, — о том думать не хотелось. Да и кто сей Фомин есть? Может, Италией слегка и припомажен, однако до осознания российских дел, до ублажения российских муз пушкарский сын навряд ли подымется. И хотя детей солдатских славное карамзинское сердце никогда не отвергало, на сей раз пришлось: свой-то круг ближе!
Даже и до того сей круг был близок, что решился поверить Николай Михайлович в явную ложь, сообщенную неким Логиновым: будто Фомин свое имя кому ни попадя ссужает. И задорого! Тем, видно, и живет. А может, и того хуже — к чужим трудам имечко свое прилаживает. Оттого, видно, и угрюм, что, запершись дома, деньгу считает!
Ну а настоящие оперы, так их теперь другие пишут.
(Забегая вперед: 6 ноября 1800 года, уже после кончины Евстигнея Ипатовича Фомина — грустно-веселая, в меру греческая, в меру российская, одноактная опера «Клорида и Милон» — была Василием Капнистом в Каменном театре представлена.
Имени автора оперы на извещении о представлении, также и на афише не было. Однако на театре, словно бы от чьего-то неслышимого дуновенья, взвился слушок: славно оперку смастерил и вкусно испек — Александр Плещеев.
Бог вовремя прибрал Фомина. Явления этой безымянной, да еще и другому сочинителю приписываемой оперы, — было бы ему не пережить!)
Мир опорожнялся, как кишечник: терял комковатость и плотность. Затем — немел, глох.
Чтобы немоту мира сего превозмочь, Евстигней Ипатыч стал призывать всех, кто был ему когда-то дорог: Алымушку, Езавель, падре Мартини, Петрушу Скокова, Гаврилу Романовича Державина, Львова...
Никто не отозвался.
Тогда стал он призывать Адонирамовых братьев. Умолял вернуться, изъяснить цель его собственного, Евстигнеева существования.
Капельмейстер звал — братья явились.
Вломились, как те полицейские чины, ночью. Пытались наложить на лоб треугольник, грозили циркулем. С братьями — и некая дама: голосок знакомый, лицо скрыто полумаской, повадка резкая, неприятная.
Дама обещала быть верной и любить до гроба:
— Даже и в поле диком, и на речных просторах наша любовь происходить будет!
Сманивала ехать веселиться. Сей же час, куда-то к черту на кулижки!
Исподволь выяснилось: не на кулижки, а все в тот же трактир «Желтенький».
Дама противно трогала за нос, тревожно заглядывала в глаза.
За окном уже стало сереть, когда догадался капельмейстер обнести себя крестным знамением. Тогда увидел: лица Адонирамовых братьев тоже сереют, чернеют даже! Еще — кукожатся, делаются размером с кулачок.
— Так вы не братья? Не Адонирамовы? Вижу, что только вырядились братьями! Ну, я вас призвал, я вас и прогоню!
— Прогонишь, прогонишь...
— А тогда зачем приперлись? Я-то вас звал для вспоможения. А вы хотите меня, как того цуцика, заставить перед вами на задних лапках плясать. Так это уж предлагал Филька Щугорев, слуга издевочный. Может, и вы — издевочные?
— Может, может...
— Да я на вас государю императору жалобу подам!
— Нашел чем пугать. Он сам по краешку мира вашего ходит…
— Мир наш — лучше вашей вечности!
— Да тебе-то чего? Ты вечности не узнаешь.
— А вот узнаю! В музыке вечен буду!
От собственных выкриков стало кисло-горько во рту, шумно в ушах.
Тут забеспокоилась дама. Еще раз подступив к Евстигнеевой постели, потрогала за нос, поцокала языком, что-то шепнула одному из братьев, менее других скукоженному...
И — потащили его с постели вниз! Едва отбился.
Вскочив, схватил скрыпицу, резанул по струнам смычком.
Наволочь сгинула. Однако не сразу: слышно было, как все разом ссыпались ночные гости с лестницы. И снизу шипели:
— В неизвестной могиле сгниешь! Ужо постой! Ужо позаботимся!
Глава пятьдесят вторая Поэт Державин, актер Дмитревский
Век девятнадцатый оповещал о приближении своем грозно.
Тайно и явно грозила Англия. Было оказано непочтение Мальтийскому ордену. Бузили матушкины любимцы. Народ российский вызывал гнев и оторопь: одевались не так, говорили не то, действовали бессердечно и без умственной строгости!