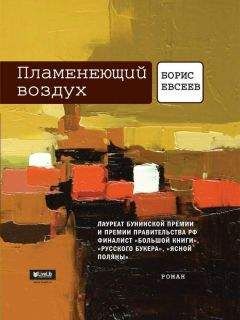Век девятнадцатый оповещал о приближении своем грозно.
Тайно и явно грозила Англия. Было оказано непочтение Мальтийскому ордену. Бузили матушкины любимцы. Народ российский вызывал гнев и оторопь: одевались не так, говорили не то, действовали бессердечно и без умственной строгости!
На все те угрозы император Павел отвечал (тем, кто того заслуживал) грозою собственной.
Еще три года назад, 1-го числа декабря 1797 года, был отдан приказ московскому военному губернатору Измайлову:
«Объявите княгине Дашковой, чтобы она, напамятовав происшествия, случившиеся в 1762 году, выехала из Москвы в дальние свои деревни. Да извольте смотреть, чтоб ехала немедленно. Пребываем к вам благосклонный —
Павел».
Так, так! Чтобы и духу не было! Даже и самый воздух — в коем дух сей, путем капель и струй, распространяется, — разбить, рассеять! От 1762 года и по год нынешний, 1800-й, все чисто вымести!
Кроме Дашковой, были и другие высылки. Но не доскоблил, не домел!
И теперь матушкино охвостье исподтишка над ним насмехается. Даже сын, Александр Павлович!..
Что горше дня нынешнего? Одни только предсказания будущего.
Последнее предсказание явилось нежданно, а в голове угнездилось крепко.
Вот откуда оно взялось.
Шел — то поторапливаясь, а то весьма неспешно — апрель 1800 года. В середине апреля был взят на площади и после дознания доставлен к императору некий монах, Василий Васильев.
Сей Васильев (в монашестве Авель) давно уже слыл дерзко и бессмысленно пророчащим. А тут, в апреле, словно с цепи сорвался: пророчил едва ли не ежедневно!
На вопрос о продолжении царствования — Авель изрек слово «смерть».
На вопрос о силе империи — предсказал ее распад и уничтожение.
На вопрос о царствии небесном ответствовал беспечно и нагло: «Не для всех».
Павел Петрович призадумался. Сие — издевка? Или... Или есть тут сходство с собственными тайными предчувствиями и снами?
Император сник.
И нынешний монах, и сильно подзабытая гадалка твердили одно и то же: конец — ему, конец — всему. И уж скоро!
От ужаса внутренних, с самим собой, разговоров Павел Петрович вскрикнул. А обернувшись на шорох, увидел: за спиной, шелестя долгой хламидой, кривляется и размалеванным пугалом подпрыгивает смерть.
Чья это смерть? Его, чужая?
Евстигней Ипатыч тоже вскрикнул. По слабости здоровья — тихо, хрипло. Привиделось: кто-то стоит в головах.
После крика закашлялся. Уже знал: это всегдашняя сутулость привела его к закупорке жилы, которая подводит кровь к легким. Так еще два-три раза кашлянуть — и жила вместе с легкими разорвется навек!
Сего дня в Дирекцию придворных театров или репетировать партии идти не требовалось. Это обрадовало. Боязнь питерских дворов и проспектов после встречи с Адонирамовыми братьями и синьором Гальвани стала возрастать и возрастала теперь ежечасно.
Решено было оставаться в постели.
Однако ж, наперекор решению, поднялся, через силу оделся. Уже кончив одеванье, решил вдруг облачиться по-иному, по-театральному. Благо, костюм петровского солдата, доставшийся ему после одной из постанов почти задаром, давно плесневел в сундуке.
В зеленом с красными обшлагами мундире вновь почувствовал он себя пушкарем, канонером. Втайне мечталось: выйдет на улицу, встретится патруль, отведут за присвоение формы на гауптвахту. А там — холодноватая музыка решеток, тюремные стуки… О дерзости оперного сочинителя донесут государю, тот (как уже не раз бывало) самолично пожелает во всем удостовериться. Войдет, скажет: «А… Это ты, Евстигней Ипатыч? Давно желал я с тобою встречу иметь».
А дальше — хоть голова с плеч!
От сего внутреннего: «голова с плеч» снова, как некогда в Болонье, почувствовал он себя Евсигнеем римским воином. Но лишь на миг!
Вышел на улицу — Нева, каналы, набережные без деревьев. Вместо стремительной и плавной ходьбы — угловато подпрыгивающие люди…
Из приросшего к коже петровского мундира, из обстоятельств жизни российской выпрыгнуть было невозможно.
Повернувшись уходить, оглянулся.
Перемена во внешнем мире удивила его. Питерские дома — как в детстве про них мечталось — стали полупрозрачны. В домах копошилась жизнь, шились роскошные и бедноватые туалеты, прикрывая голые спины ненужными в те миги простынками — творилась любовь...
«Ежели на мир глядеть по-солдатски — все меняется. Легко жить, не страшно умирать. А вот ежели глянуть по-сочинительски...»
Он озирнулся на весеннюю Неву. Любо, славно, легко, как вода, плыли над ней туманом чьи-то жизни.
Нечто неясное подошло и встало рядом. Сие неясное — слегка шумя, приподнимало себя над водой, над плывущим по воде сором, тянулось облачками дыма к берегу, принимало вид несуразной фигуры в долгой хламиде...
Смертушка? Она…
Что смерть вещественна и зрима — сего допустить не мог. Однако чувствовал: именно cмерть — как та coda в опере — затевает все завихрения и убыстрения жизни. Заглядывает в полупрозрачные дома, поторапливает в них живущих. Люди в домах собственных и в съемных квартерах — разные. А смерть одна и та ж! Идет, качается, а за ней волочится хвост судеб человеческих! Сейчас, правда, смерть на миг его оставила — шатнулась к другому.
Домой, домой!
Доплетясь кое-как до квартеры, мигом, что бывало редко, — уснул.
Ветерок в длинной хламиде колыхнулся, пробежал по Евстигнееву лбу.
Лоб стал холодеть: прохладней, совсем холоден. Все? Все!..
Уходя — радовался. Знал: он-то и есть настоящий Орфеус. И стало быть, встреча с которой-нибудь из Эвридик — предрешена.
Вслед за радостью — надвинулся (как треух на глаза) смертный сон.
Но даже и сквозь сон этот чуялось Евстигнею Ипатычу пренебрежение и недоброжелательство. Приходили какие-то люди, накладывали пятаки на глаза. Люди уходили, вместо них являлись тени.
От пятаков, впервые за последние месяцы, в голове стало пусто, приятно.
Тяжесть почувствовал лишь однажды, услыхав казенный разговор:
— А и погрести-то нечем... Хожу, хожу по квартере — ни золотишка, ни ассигнации припрятанной...
— А коли нет на погребение — так и не станем беспокоиться, брат! В Неве, конечно, топить не станем, а и стараться шибко не будем.
— Еще б мы старались. Ты видно, Пека, забыл! Сказано ведь тебе странствующим монахом: погрести безвестно.
— Не по нраву мне сей монах, Семеныч! Дикий он какой-то, и нос, как у разбойника, перебит.
— Тс-с… Ты на чьи денежки и сейчас пируешь, и завтра пировать собираешься? Да и монах сей дикий, сдается мне, где-то рядышком обретается…
— Да ты когда золотые ефимки от него принимал, не утаил ли чего, Семеныч?
— А вот я тебе за это…
Названный Семенычем влепил Пеке смачную затрещину. Звук от затрещины перешел в звон, звон полетел к Адмиралтейству, затем дальше, к Неве…
— Чего дерешься, Семеныч? Верю, что не утаил… А монах — все одно дикий, может, и веры не нашей. Напужал он меня. Так что и денег его мне не надо. И ежели ты что утаил — так пусть тебе и останется.
— Ну то-то же, — довольный Семеныч рассмеялся. — А сказано в безвестной могиле схоронить, стало быть, в безвестной.
— Все ж таки какой-никакой хрест поставить бы. А монаху соврем, что в безвестной. Хрест поставим, а где именно — говорить никому не станем… Свезем-ка его на Лазаревское!
— Не нашего полицейского участка Лазаревское. Да и не для профессоров-оборванцев, слышь, Пека, Лазаревское! Близ церкви праведного Лазаря, — Семеныч снова рассмеялся, — не всем по карману лежать.
— Нам полицейские — што, указ? Да и нету им до оборванцев настоящего дела… А тогда — свезем его на Смоленское!
— К лютеранам? Вот забава так забава...
— А хлебнем из кружечки — так еще забавней станет. Тогда уж точно порешим: куды его! Безо всякого разрешенья зароем. Телу-то лишь бы в землю! А в какую — не наша забота! И хрест поставим. А где оно, тело, обретается, ото всех скроем. Оно и монаху приятно, и полиции делов меньше!
Булькнула наливочка, хрустнул сухарь, улетел бесшумно короткий вздох.
«Ангелов творче и Господи сил моих…» — сказалось внутри Евстигнея акафистом. Но сказалось не голосом ката Шешковского — ласковым басом вотчима Федотова сказалось.
Вслед за акафистом и бульканьем наливки слух вдруг свернулся конусом.
Конусом свернулось и все тело. И был тот конус невидимой печатью навсегда запечатан. А потом конус уменьшился, засветился веселым ясным светом и был малой искоркой (вмиг обернувшейся пушечным ядром, а затем уподобившейся вставшей на крыло птице) отослан по назначенью.
Тут, собственную свою искорку заприметив и уяснив: вовсе она не гальваническая, не иезуитова, другая! — остекленел и рассыпался Евстигнеев разум и взор.