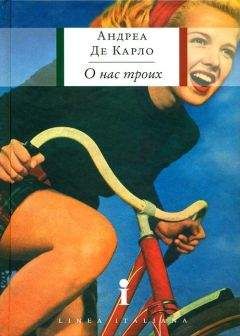— Сам ты попугай! — крикнула она. — Тебя вообще не волнуют ни я, ни мой имидж! Хочешь, чтобы я со всем миром разругалась?!
Марко явно не ожидал от Сары такой яростной вспышки, но не стал ничего делать, чтобы ее успокоить: наклонив голову, он смотрел на нее с расстояния в два-три шага, будто наслаждаясь комизмом происходящего. И тон его был далек от примирительного, когда он сказал:
— О каком мире ты говоришь? Мир, между прочим, довольно большой.
— Мой мир! — закричала Сара с тем же остервенением, с каким орала накануне на сына. — Это единственное, что для меня важно! И для тебя, кстати, тоже, когда ты не выпендриваешься перед своим итальянским приятелем!
— Не так уж для меня это и важно, если хочешь знать, — сказал Марко. — И если я не попаду на этот идиотский ужин, убиваться не стану, уж поверь мне.
— Браво! — Сара, кружившая по комнате на своих длинных ногах, как-то неловко захлопала в ладоши. — Ты же такой потрясающий и независимый, да? Но когда на прошлой неделе Гропер-Уолдоны пригласили нас на ужин, а я была занята на телевидении, как же ты взвился! Заставил меня перенести все на следующий день, лишь бы не пропустить его!
— Ничего подобного. Это ты туда рвалась.
— Нет, ты! Ты умирал от желания поговорить о своем фильме с Джеком Коннафом, задобрить Джима Боулера, приударить за Барбарой Чен, наслушаться дифирамбов от всяких Хиггинсов, Мокардо и прочих профессиональных подхалимов и сводников!
— Это твои друзья. — Марко оглянулся на меня то ли в поисках поддержки, то ли интересуясь моей реакцией. — Это твой мир, ты так и сказала. Мне на этих людей наплевать. Если я и говорю с кем-то из них, то для того, чтобы не сдохнуть от скуки.
— Ну конечно, конечно! — воскликнула Сара. — Ты же выше всего этого, да? Даже когда уже увяз по уши! И прекрати скалиться!
— Я не скалюсь, — сказал Марко, хотя именно это он и делал. Ему никогда, даже в самые драматические моменты, не удавалось сохранять полную серьезность: дело было не в равнодушии, просто он от всего и от всех держался на расстоянии.
— Еще как скалишься! — закричала Сара, окончательно выйдя из себя. — Все равно ведь ты всегда сам решаешь, прийти или нет! Осчастливить нас, простых смертных, своим присутствием или вознестись на небеса и снисходительно взирать на нас оттуда!
Слуга-индус заглянул в гостиную, держа в руках поднос с бокалами, но, оценив обстановку, бесшумно исчез.
— Перестань, Сара, — сказал Марко, отвечая полуулыбкой на ее истерику; человеку со стороны его тон показался бы насмешливым, я же не знал, что и подумать.
— И не подумаю! — воскликнула Сара. — Сейчас же одевайся и поехали!
— Я в самом деле не хочу на этот ужин, — сказал Марко. — Сходи сама. А я побуду тут с Ливио. Все равно, если бы я пошел, ты бы потом целыми днями жаловалась, что я не так разговаривал с одной, не так посмотрел на другую и так далее.
— Потому что так оно и есть! Ты всегда ведешь себя как свинья и делаешь вид, что это совершенно нормально! Как будто все должны с тобой носиться, ведь ты у нас такой гениальный!
— Это неправда, — сказал Марко, изо всех сил делая вид, что этот разговор для него важен. — Это тебе так отчаянно нужны другие люди. Постоянно. Это ты боишься исчезнуть, если не будешь у людей на глазах и на слуху!
— Я работаю на телевидении! — закричала Сара, охваченная гневом, разочарованием, обидой. — Хотя ты и думаешь, что это все ерунда по сравнению с тем, что делаешь ты.
— Вот именно, ерунда! — Марко вернулся к своему подчеркнуто отстраненному тону. — Но и то, что делаю я, тоже ерунда. Это так скучно, придавать столько значения тому, что мы делаем. Так недальновидно.
— А чему же мне, по-твоему, надо придавать значение? — закричала Сара. — Тебе наплевать на меня и Карла, ребенка ты не хочешь, ты рядом, но сам по себе, ты шантажируешь всех тем, что можешь уйти в любой момент неизвестно куда и больше не вернуться!
Я стоял между ними в большой гостиной с огромными окнами и готов был провалиться сквозь землю. Я никак не мог решить, стоит мне вмешаться или же оставить их одних, и меня мучил вопрос: неужели это я так разрушительно действую на семейные отношения моих лучших друзей, или я просто по чистому совпадению появляюсь в их жизни не в самый подходящий момент.
— Что ты так кипятишься? — Марко продолжал делать вид, что ничего особенного не происходит.
— Потому что меня уже тошнит от тебя! Потому что мне надоело вечно попадать в идиотское положение и чувствовать себя полной дурой!
— Давай поговорим об этом спокойно? — Марко положил ей руку на плечо, но не слишком уверенно.
— Слишком поздно! — миролюбивый тон Марко только подлил масла в огонь. — Оставь меня в покое! Не о чем больше говорить! Все равно без толку! — Она выбежала из комнаты, хлопнула входная дверь.
Марко посмотрел туда, где она только что стояла, взглянул на меня.
— Ну же, беги за ней, — сказал я.
После секундного колебания он подавил порыв броситься за ней следом:
— Ничего, все в порядке.
— Как же так? — спросил я.
— Пускай идет на свой ужин, — сказал Марко. — Для нее это так важно.
Мы пошли в паб в нескольких кварталах от дома, весь пропахший дымом и винными парами, сели в самый дальний угол, за стол у стены из старого красного кирпича. Марко заказал два пива и открыл окошко, выходившее во двор-колодец, — дышать стало чуть легче. Принесли пиво; он выцедил свое в несколько глотков, не говоря ни слова.
Я старался от него не отставать, но мне хотелось больше есть, чем пить, впрочем, и чувство голода притупилось при мысли, что я опять, как и с Мизией, что-то сломал в его жизни одним своим неловким присутствием. От пива мне не стало легче, только усилилась горечь во рту. Думаю, у Марко было то же самое: он пошел к стойке и вернулся с бутылкой водки и двумя рюмками.
Мы запили пиво водкой, кругом мелькали раскрасневшиеся лица посетителей паба, слышались взрывы хохота, мерцали зажженные сигареты, медленно скользили взгляды. Выпивая, Марко запрокидывал голову, Мизия всегда так делала, чтобы не чувствовать вкус и чтобы алкоголь действовал быстрее и сильнее; я попробовал пить так же и за несколько минут настолько захмелел, что не чувствовал пола под ногами.
После третьей рюмки Марко спросил:
— Как, по-твоему, я и правда бесчувственный? Я действительно смотрю на все свысока и постоянно держу дистанцию?
— Не знаю, — сказал я, пытаясь собраться с мыслями.
— То есть как, не знаю? — встревожился Марко. — Значит, тебе тоже так кажется?
— Что-то странное в тебе есть, — сказал я наконец. — В общем, можно понять, почему Сара из-за тебя впадает в такое отчаяние.
— Так почему? — спросил Марко. — Что во мне странного? Что мне надо сделать, чтобы убрать эту дистанцию?
Я думал о его романе С Мизией: как он сбежал, едва почувствовав, что она чего-то ждет от него. Меня душила злоба; так и подмывало воспользоваться этой его минутной слабостью и выложить ему все начистоту, признаться, что ради Мизии я сделал бы и в десять раз больше, чем требовалось от него.
— Например, не сбегать, — сказал я жестче, чем хотел. — Не думать, что можешь получить все, что хочешь, легко и играючи, и не бросать дело на полпути, когда обнаруживаешь, что все не так просто.
— Только и всего, — сказал он, но я увидел смятение в его взгляде.
Я был слишком зол, чтобы помнить о снисходительности, слишком живо представлял себе Мизию, грустившую, страдавшую, впадавшую в отчаяние из-за него. Перед моим мысленным взором будто бы вставали ожившие фотографии: Милан, Цюрих, Париж, Аргентина, все эти последние двадцать лет, все эти самообманы, иллюзии, замки, которые она строила на песке, лишь бы справиться со своей любовью к мужчине, который не мог быть рядом.
— Например, ты мог бы избавиться от своей чертовой уверенности, что другие должны потакать твоим сменам настроения, ждать, пока ты обратишь на них внимание, и мириться с твоим равнодушием, бросаясь при этом к тебе со всех ног при первом оклике.
Марко опрокинул еще одну рюмку водки:
— Это же неправда, Ливио. Я ни в чем таком не уверен. Просто я такой и всё.
— Отличная отговорка, — сказал я, хмель уносил меня, как порывистый ветер — воздушный шар.
— Это не отговорка, — сказал Марко. — Не знаю, правда ли, что я всегда держусь на расстоянии, но если правда, то так всегда и было. Даже когда я был ребенком, и город, где я жил, мне не нравился, не нравилась обстановка в семье, не нравилось вообще ничего из того, что я видел, чувствовал и делал, и я сам себе не нравился. Я так уходил от мира, уходил в будущее или в параллельную реальность, что-то вроде четвертого измерения, где меня не могло догнать отчаяние. Не могу сказать, что с тех пор что-то изменилось и я полюбил этот мир.