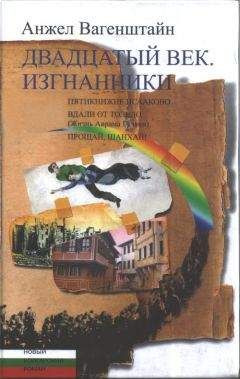Так вот, когда молва достигла Сотира Димова, он три дня не ел, не пил и не произнес ни слова, а на четвертый попытался покончить с собой, но партизанское ржавое ружье дало осечку. За этот самовольный поступок штаб партизанского отряда строго наказал его, навсегда лишив оружия.
Не прошло и месяца, как все переменилось. Сотир Димов вернулся вместе с победителями, его выбрали уполномоченным председателя сельсовета. Однако он наотрез отказался явиться в суд, чтобы дать свидетельские показания против виновников постигшей его трагедии. Не потому что великодушно простил их, нет. Просто характер у него был скромный и замкнутый; ну, не хотел участвовать человек в воздаянии возмездия — зачастую справедливого, но нередко и не очень, как результат стихийной ненависти или сведения личных счетов. Просто не захотел, и дело с концом. Его привели в суд под конвоем, как последнего арестанта. Сразу после этого он принялся отстраивать свой сожженный дом, а также взялся за дело всей своей жизни — строительство отводного канала, который должен был осушить болота. Ибо все его односельчане были один беднее другого, и не было у них достаточно земли, да к тому же летом им не давала жить — опять же из-за этих проклятых болот — малярия терциана.
Этот Сотир Димов, одинокий, не очень грамотный, но одаренный небесами чувством справедливости человек, искренне преданный мечте приблизить наступление новой жизни посредством прокладки отводного канала, для чего ему остро не хватало кирок и лопат, принял в своем доме двух представительниц враждебного класса, дал им хлеб, одеяло и шанс выжить.
У них не было карточек на продукты и самые необходимые вещи. Времена же были трудные, карточные, поэтому уполномоченному председателя пришлось поднять шум аж в окружном центре, чтобы решить проблему, поставив вопрос ребром: что такое социализм и есть ли для него почва в нашей стране.
Благодаря Сотиру Димову, который стучал в разные двери, используя связи с бывшими партизанами, ставшими, меж тем, большими начальниками, выяснилась и мистерия с исчезнувшим господином Вартаняном-отцом. Оказалось, что его отправили в лагерь на рудник Куциян, в другой конец болгарской страны, где сомнительные в политическом отношении лица зарабатывали себе свободу, добывая каменный уголь, столь нужный для закладки основ новой справедливой жизни.
Разумеется, Мари Вартанян не преподавала французский и фортепиано — она шила парусиновую одежду для крестьян-кооператоров, а Аракси каждый день пешком преодолевала шесть километров до соседнего села, где находилась средняя школа. И ей не мешали ни летний пыльный зной на придунайских просторах, ни глубокие сугробы и вьюги зимой.
Сначала дети, да и учителя тоже, приняли ее не очень дружелюбно. Мы уже обсудили синдром отторжения, так что не будем к нему возвращаться. Но вмешался товарищ Димов, которого все уважали и по-свойски называли дядей Сотиром. К тому же Аракси с ее знаниями была на несколько голов выше одноклассников, поэтому все вскоре забыли, что эту девочку привезла милиция и принудительно водворила на место жительства как особу, угрожающую безопасности страны.
Итак, прошу простить мне мою назойливость: хоть мнения ученых о нравах тиранозавра, исчезнувшего миллион лет тому назад, расходятся, мне все же не дает покоя вопрос: какие у него были глаза?
39
Мы с Аракси идем по прибрежному речному бульвару, как раз напротив моего многозвездного «Новотеля». Рядом Марица несет свои темные воды, в которых кружатся многочисленные соломинки и ветки, — привет с рисовых полей и из яблочных садов.
— Здесь раньше был мост, — говорю я.
— Деревянный мост. Его унесла река.
— Жалко. На этом месте следовало бы воздвигнуть памятник неизвестному ремесленнику, символу силы и таланта Пловдива. Здесь была мастерская деда. Напротив один македонец держал корчму, где подавали похлебку из требухи, а рядом была турецкая кофейня. По утрам, когда дед опохмелялся похлебкой, все окрестные скорняки, кузнецы, медники и бондари закрывали свои мастерские, чтобы послушать его байки. А он любил плести небылицы из своей жизни, когда он якобы был корсаром или служил при английском королевском дворе. Наверно, читал об этом в каком-то романе. А на том берегу был кинотеатр «Электра», помнишь?
— Нет. Это мальчишки помнят кино, у девчонок другие воспоминания.
— Какие, например?
В тот день, как всегда по инициативе Аракси, мы опять сбежали с уроков. Бродили вдоль реки, кидали плоские камешки, которые прыгали по поверхности лениво текущей воды. В этом деле я был лучшим. Аракси вообще не умела бросать камни.
В какой-то момент эта игра ей наскучила, она сняла со спины ранец и бросила его в траву между прибрежными тополями.
— Давай искупаемся! — предложила Аракси, и тут же принялась стягивать с ног лаковые туфельки и белые носочки.
— Нас заругают, — малодушно возразил я. — Бабушка все время боится, чтоб я не утонул.
— Что мы, сумасшедшие, чтобы рассказывать об этом?
— Она всегда узнает, купался я, или нет. Ей только стоит провести ногтем по ноге.
Для Аракси это было чем-то новым, она даже перестала расстегивать блузку.
— И что с того, если проведет ногтем?
— Если купался в Марице, на коже остается белый след.
Аракси на секунду задумалась, новость ненадолго отвлекла ее внимание, но потом энергично продолжила раздеваться.
— Мама этого не знает!
Она осталась в трусиках и трикотажной маечке, я тоже сбросил одежду и остался в черных трусах — тогда мы еще не знали, что мальчишечьи трусы могут быть и другого цвета. Я первым бросился в теплый омут, за мной, закрыв глаза, спиной бухнулась в воду Аракси. Она притворилась мертвой, а я вроде как поверил, испугался и попытался ее приподнять. Шалунья покачивалась, как утопленница, и вдруг неожиданно прыснула в меня струйкой воды изо рта. Мы стали бороться — я, как всегда, позволил ей меня победить… Потом мы долго ползали по маленьким прозрачным плесам, пытаясь поймать скользких, увертывающихся окуней и усачей…
Устав, мы разлеглись на траве, воздух был полон птичьего щебета и стрекотания кузнечиков. Аракси довольно потянулась, зажмурившись от яркого солнца, ленивая и расслабленная. Я, приподнявшись на локте, долго смотрел на нее, на прилипшую к телу мокрую ткань и, наконец, решился:
— Покажи мне твои титьки.
Она немного помолчала, потом, так же, не двигаясь, скосила глаза по сторонам и, наконец, согласилась:
— Ладно. Но не будешь трогать.
— Не буду.
Она спустила одну бретельку и оголила чуть набухшую грудь. Я смотрел, как завороженный, охваченный трепетом, закодированным в крови еще в доисторические времена, может, даже за тысячелетия до появления человека на этой земле. Потом тихо промолвил:
— Можно поцеловать?
— Но только один раз.
Я прикоснулся губами к маленькому, едва наметившемуся пупырышку.
Она тут же поправила маечку с тем врожденным чувством самосохранения, которое не позволяет девочкам переступить черту, за которой кончается игра.
Потом сказала:
— Сейчас царапни меня по ноге, посмотрим, что будет.
Я приподнялся, и легонько провел ногтем по ноге длинную царапину. На обветренной после воды коже проступила белая линия.
— Вот! — торжествующе воскликнул я.
Она привстала, посмотрела на ногу, снова легла и закрыла глаза.
— Царапни снова!
Я снова провел ногтем.
— Еще!
— Зачем? — спросил я.
— Так, просто приятно.
Воздух — как и тогда — наполнен птичьими трелями и стрекотанием кузнечиков. Я лежу на траве, отложив в сторону пиджак, и, слегка приподнявшись на локте, смотрю, как Аракси, задрав юбку, шлепает в теплой воде. Потом она возвращается и садится рядом. Вынимает из сумки сигареты, щелкает зажигалкой, закуривает. Потом ложится на траву и закрывает глаза.
Я смотрю на нее, потом наклоняюсь и нежно целую в губы. Она отвечает мне быстрым сестринским поцелуем и отворачивается.
— Нет. Не нужно!
— Сейчас нет или вообще нет?
— Сейчас нет. И вообще нет.
Закрыв глаза, она продолжает курить, я смотрю на нее, приподнявшись на локте, щекочу ей губы травинкой. В эту минуту она мне кажется такой же необыкновенно красивой и недоступной, какой была ее мама, наша учительница французского мадам Мари Вартанян.
— Супружеская верность?
— Это не имеет отношения к данной проблеме.
— А что имеет отношение?
Она почти повторяет мои слова:
— Не что, а кто. Я. Это моя личная проблема. Мой муж болен, неизлечимо. Лучевая болезнь. Живет на каких-то таблетках, вроде бы красного цвета, но кровь его становится все белее и белее. Он уже не может … ну, как это сказать… не может как мужчина, понимаешь. Тяжелее болезни для него страх, что я могу его бросить. Больные становятся мнительными эгоистами, их не интересует, что чувствуют их близкие. Хотя его тревоги абсолютно напрасны, потому что я его не брошу. Никогда.