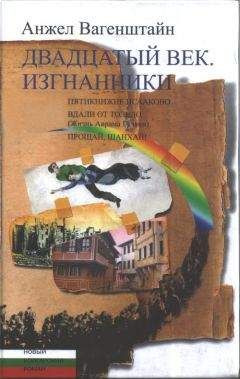Итак, я остановился, чтобы посмотреть на привязанное к длинному крепкому колу животное, непрерывно идущее по кругу, семеня тонкими маленькими ножками, трогательно неказистое и слабое на вид. Крутящаяся ось приводила в движение систему грубых деревянных зубчатых колес, вращавших большое колесо, а оно, в свою очередь, ритмично зачерпывало ковшами и выливало в желоб темную речную воду.
Ослик шагал медленно и равномерно, ритмично кивая в такт шагам головой, как бы говоря, что сочувствует безрадостным, обуревающим тебя мыслям, и всеми фибрами своей ослиной души поддерживает тебя.
Ко мне подошел дед, устало присел на пень и закурил.
— А почему у него завязаны глаза, а, деда? — спросил я.
Гуляка немного помолчал, пристально посмотрел на ослика, затянулся сигаретой и только тогда ответил:
— Почему? А ты посмотри на него внимательно. Ведь он, бедолага, думает, что идет вдоль реки, все прямо и прямо. Слышит шум воды, это радует его сердце и вселяет надежду на то, что эта дорога, как и любая дальняя дорога, когда-нибудь кончится. Вот так ослик идет и идет, и сдается ему, что он шагает по прямой, как натянутая веревка, дороге у какой-то реки. Ночью, когда стемнеет, его отвязывают и уводят накормить и напоить, потом снова, еще до восхода солнца, завязывают глаза, и он снова идет по своей дороге, веря, что заветная цель становится все ближе. Потому что даже ослы знают, что если ты идешь к дальней цели, то чем дольше ты идешь, тем ближе она становится.
— И до каких пор он будет так идти?
— Пока в один прекрасный день не упадет, и его измученная душа не отойдет в ослиный рай, чтобы отдохнуть от долгой дороги. Тогда и цель будет достигнута — вечный покой. Да и о чем ином может мечтать изнуренный работой осел?
Я возмущенно воскликнул:
— Но ведь то, что ты говоришь, очень грустно!
— Грустно, конечно, но это так, мой мальчик. Такова жизнь — изнурительное, грустное хождение по кругу, вокруг вбитой в землю палки. А человек все время вертится в одном и том же круге, думая, что следует прямой и ясной дорогой к далекой, но благородной цели. Он слышит шум воды в реке, и сердце его радуется, что цель становится все ближе и ближе. Но дорога не кончается, а он, бедный, все продолжает идти…
— Но ведь у людей глаза не завязаны, не так ли?
— С чего ты взял? Ай, ай, ай, вот уж не ожидал от тебя такой глупости! Завязаны, мой мальчик, да еще как завязаны. Только повязки этой не видно, она не такая как та, ослиная. Человеческая повязка хитро скроена, ее трудно заметить. К тому же, они разные, повязки на глазах, еще какие разные! Чем, как ты думаешь, занимаются разные там церкви, синагоги, мечети и всякие иные псевдохрамы? Или речистые мошенники в парламенте? Именно они и делают повязки для глаз. А что собой представляют предрассудки и суеверия твоей бабушки? А всякие там политические махинации, рассчитанные на доверчивых простаков? Или возьми патриотические манифесты, лживые идеалы, ради которых люди гибнут в окопах? А военные доктрины, религиозные ритуалы и ложные надежды? Все это повязки на глазах у людей! Так-то, мой мальчик. Но был когда-то один человек из наших — хотя и не бедняк из Орта-Мезара, но жили мы с ним как добрые побратимы, уважали друг друга, я был его личным жестянщиком. Звали его Проповедником, или по-гречески Екклесиастом, а настоящее его имя было нашим, чисто еврейским — Шломо, царь Соломон. Так вот, он первым прозрел, что все — бессмыслица, суета сует и всяческая суета: «Все, Аврам, — говорил он, — суета и погоня за ветром». Так говорил мне мой друг Шломо. Поэтому, мой мальчик, когда задумаешься о круговороте жизни, понимаешь, что все и ничего, начало и конец — одно и то же. Круговерть. А когда нет начала, нет и конца. Вот потому осел и крутится на одном и том же месте, потому что круг есть движение без начала и без конца.
Гуляка сильно затянулся сигаретой, задумался о чем-то — мысли его в тот момент витали где-то в иных просторах, — но быстро спохватился, что он не один, и ласково похлопал меня по спине.
— Понял, что я тебе сказал?
— Нет, — откровенно признался я.
— Ничего, когда-нибудь обязательно поймешь. Это приходит с возрастом. Но ты не думай, что хождение по кругу бессмысленно. Есть в нем смысл, и немалый. Потому что таким образом крутится чигирь, и вода льется прямо жизни под корни. Поэтому человек живет, веря, что идет дорогой вдоль реки, и не теряет надежды, что цель все ближе. Ибо если осел или человек потеряют надежду, с ними будет покончено. Капут! Ты когда-нибудь видел надежду? Знаешь, на что она похожа?
— Нет.
— На тыкву. Вот посмотри, какие они сейчас маленькие и зеленые. Но они будут зреть и наливаться, в этом-то и надежда огородника. И в один прекрасный день надежда вырастет и станет большой желтой тыквой! А без ослика, без его хождения по кругу, этого не произойдет, понял?
Я зачарованно смотрел на своего дедушку.
— Откуда ты все это знаешь, деда?
— Как откуда? И ты еще спрашиваешь? Да разве найдется в нашем квартале больший осел, чем я?
42
Точка зренияНет ничего более удручающего, чем искать в болгарском городе ночью номер нужного тебе жилого дома, а найдя его, пытаться прочесть на табличке фамилии жильцов нужного тебе подъезда, где, к тому же, давно не работают звонки домофонов да и освещение в подъезде тоже не предусмотрено. Об этом, кстати, поется в одной очень грустной песне…
Не знаю, возможно, действиям архитекторов, спланировавших это бетонное недоразумение, есть какое-то социальное и экономическое объяснение или их можно оправдать, сказав, что таково направление целой академической школы. Конечно, ничего личного, но, по-моему, подобным, с позволения сказать, зодчим, следовало бы поручать только разработку планов казарм. Общее пространство настолько нефункционально и бессмысленно устроено, настолько лишено малейших признаков уюта, а освещение настолько скудно, что кажется, жизнь любого индивидуума, по задумке авторов этого строения, должна начинаться только с коврика у порога собственной квартиры. За ее пределами ему просто ни к чему красота интерьера и элементарные удобства.
Несмотря ни на что, я геройски преодолеваю все препятствия на своем пути, призвав на помощь остатки инстинкта и воспоминания о том дождливом вечере, когда, несколько дней назад, мы стояли перед этим же подъездом, освещаемые меняющимися цветами светофора.
Выхожу из лифта с букетом розовых гладиолусов, ищу нужную мне дверь и нажимаю на кнопку звонка.
Мне открывает супруг Аракси, специалист по ядерным авариям.
— Простите великодушно, я немного опоздал, — виновато бормочу себе под нос, поскольку считаю, что любая попытка объяснить необъяснимое — не более чем пустая трата времени.
Он дружелюбно улыбается, пропускает меня перед собой и кричит:
— Аракси!
Она выбегает из комнаты, я неловко сую ей в руки цветы. Аракси их восхищенно нюхает, хотя отлично знает, что гладиолусы не пахнут, потом целует меня в щеки, скорее, целует воздух вокруг меня — болгары тоже восприняли эту французскую практику целовать воздух. Есть что-то искусственное и в натянуто-гостеприимной улыбке супруга, и в этой имитации сердечного поцелуя, направленного мимо меня, куда-то в бесконечность, к далеким недостижимым галактикам. Да и я сам выгляжу не лучшим образом, с этим нелепым букетом гладиолусов, которые, как оказалось, не пахнут.
Входим в гостиную — весьма прилично обставленный панельный куб, даже с некоторой претензией на роскошь, если учитывать географические широты и довольно стесненные финансовые возможности среднестатистического болгарина.
С кресла поднимается тот самый Панайотов, коротко подстриженный бывший прокурор, все в том же полувоенном черном френче, застегнутом наглухо. Мы здороваемся за руку как старые знакомые — позавчерашний вернисаж и все такое прочее. Я натянуто улыбаюсь, совсем, как хозяева. Но лицо прокурора остается бесстрастным, словно он пожаловал не в гости, а на публичную казнь.
Аракси приглашает всех к столу, суетливо старается рассадить нас поудобнее. В результате мне дважды приходится поменяться местами с супругом и один раз — с прокурором. Весело и якобы непринужденно смеемся.
Хозяин разливает вино, затем хозяйка поднимает бокал.
— За здоровье всех присутствующих!
— Лехаим! — неожиданно добавляет прокурор на иврите, все так же серьезно.
Мы чокаемся. Звенят бокалы…
Мари Вартанян и Аракси сходят с автобуса, за ними еще много женщин. По дороге из утрамбованного шлака каждая несет или сундучок, или корзинку, или узелок. Все посылки заботливо упакованы в белое полотно и надписаны химическим карандашом. Так было и так, видимо, всегда будет в тюрьмах и лагерях в дни свиданий. Именно так я представляю себе случившееся в то утро, много лет назад, в лагере на руднике Куциян. Я глубоко убежден, что если и есть какие-то отличия от реально произошедших событий, то они незначительны.