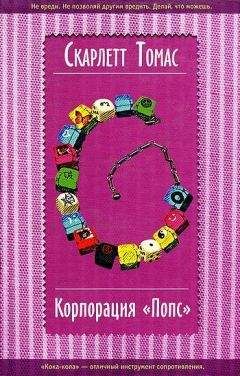— Судя по описанию, это невероятно жестокий эксперимент, — замечает бабушка.
Джасмин улыбается:
— Ну, к сожалению или к счастью — смотря с какой стороны посмотреть! — нынче такой эксперимент провести бы не удалось. После эксперимента испытуемым все растолковали и спросили у них: что, как им кажется, они поняли в результате приобретенного опыта. Один человек, узнав, чем он на самом деле занимался, был так поражен, что попросил Милгрема взять его на работу.
— Ну, и что же выяснил этот Милгрем? — спрашивает дедушка, попыхивая трубкой.
— По сути дела, он обнаружил, что многие люди будут и дальше наносить ученику болезненные — как они считают, — очень болезненные или даже опасные для жизни удары током, если авторитетная фигура скажет им, что это нормально. Чтение этой книжки сильно отрезвляет. Милгрем начинает с обсуждения нацизма и представления о том, что любому жестокому режиму или армии нужен высокий уровень покорности авторитету, который и является предметом изучения. Это крайне, крайне интересный взгляд на человеческую жестокость, проясняющий, сколь часто она должна оправдываться авторитетной фигурой. Подозреваю, что, предоставленные сами себе, большинство людей добры и чувствительны. Но дайте кому-нибудь электрошоковую кнопку и скажите, что использовать ее — совершенно нормально, и человек запросто может превратиться в чудовище.
Тут дедушка заговаривает о разных вещах, которые, по его мнению, попадают в эту категорию. О людях, которые думают, будто полиция имеет право избивать бастующих шахтеров, потому что полицейские — авторитетные фигуры, а шахтеры — нет. О тех, кто считает, что нормально проводить эксперименты над животными, потому что правительство их одобряет, а те, кто их ставит — важные ученые в белых лабораторных халатах. О сторонниках мнения, что вполне о'кей держать другие страны под прицелом ядерных боеголовок, ибо некоторые политологи и логики утверждают, что так безопаснее. Потом все трое говорят о нацистских концлагерях и офицерах, которые «всего лишь выполняли приказы».
Но я думаю про школу. Вспоминаю инцидент на прошлой неделе, когда наша кодла набрела на Лиз — та в одиночестве ела свой ланч.
— Ну чё, нет у тебя друзей, да? — сказала ей Люси.
— Она слишком жирная, в столовую не влазит, — добавила Сара.
И все мы засмеялись. Даже я. Мне казалось, что смеяться над Лиз нечестно, но я все равно так сделала из-за Люси и Сары — они ведь считали, что это нормально. А еще потому, что я не хочу быть такой, как Лиз. Посмеявшись над ней, я от нее дистанцировалась. Я — та, кто смеется, а не та, над кем смеются другие. Такова на сегодняшний день моя самоидентификация.
Гуляя с популярными девчонками, я обретаю защитную оболочку. Я не могу себе позволить ее потерять. Во мне слишком много того, к чему они могут прицепиться, слишком много того, что не соответствует их понятиям. Я не могу себе позволить оказаться в положении Лиз, потому что тогда им будет слишком просто меня заклевать — им главное понять, как это сделать. В конце концов, лучший способ не иметь врагов — это присоединиться к ним. Впервые в жизни я понимаю, из-за чего люди на войне становились коллаборационистами. Каждый раз, читая историю о человеке, который продал своих друзей нацистам, я не могла врубиться — как так можно? Я всегда думала: уж я-то была бы храбрее. Я бы не заговорила, даже запытай они меня до смерти. И все же я стала предателем всего лишь из-за того, что не хочу, чтобы меня дразнили в школе. Да что со мной такое?
Я погружена в свои мысли, и до меня не сразу доходит, что все трое взрослых в комнате смотрят на меня, улыбаясь.
— Ну, и? — говорит бабушка.
— Простите, — бормочу я. — Я улетела на много миль.
— В этой комнате находится розовый слон, — говорит мне Джасмин.
Я правильно расслышала? Что происходит? Может, это начало какого-то анекдота.
— О'кей, — киваю я и жду, что будет дальше.
Они смеются.
— Я же сказал: с Алисой это не пройдет, — говорит дедушка.
— Есть ли в этой комнате розовый слон? — спрашивает у меня Джасмин.
— Нет.
— Ты уверена?
— Да, — говорю я. — Посмотрите кругом. Тут нету розового слона. Как он сюда попадет? К тому же розовых слонов не бывает, поэтому я знаю: тут его точно нет.
— А я говорю, в этой комнате — розовый слон.
— О'кей. — Я пожимаю плечами. Куда она клонит?
— Можешь доказать, что его тут нет?
Черт возьми. С минуту размышляю, сбитая с толку. Это не математика. Такие вещи нельзя доказать — это я сразу же понимаю. У тебя имеются лишь свидетельства органов чувств да врожденное здравомыслие, плюс склонная к ошибкам недологика, основанная на опыте. Я могла бы доказать теорему Пифагора, дай мне кто-нибудь листок бумаги, но доказать, что в комнате нет розового слона, я не смогу. Я думаю обо всем, чему научилась в школе за последние несколько недель, о странных играх, в которые я теперь умею играть, и смотрю Джасмин прямо в глаза.
— Да, я не могу этого доказать, — говорю я. — Поэтому я заключаю, как и вы, что в этой комнате и вправду есть розовый слон.
Оп-паньки! У меня такое ощущение, что так в эту игру играть не положено, но я понимаю, что выиграла.
Джасмин улыбается и качает головой:
— А знаешь, я никогда раньше не слышала такой ответ. Как странно.
— Вот такая у нас Алиса, — говорит бабушка.
— Я тестировала сотни детей, и все они рвали на себе волосы, стараясь убедить меня, что в комнате нет розового слона.
— А зачем вам было тестировать сотни детей? — спрашиваю я.
— Я проводила эксперимент, чтобы выяснить, как люди определяют реальность и как, по их ощущениям, эта реальность сконструирована, — отвечает Джасмин. — Тут все дело в логических формах, с помощью которых люди станут убеждать меня, что розового слона в комнате нет. Некоторые дети говорят: «Сами посмотрите — видите, нет ведь его тут». Тогда я говорю: «А если б я была слепая, как бы вы меня убедили?» Они перебирают способы восприятия один за другим. После этого я заявляю, что розовый слон невидим и поэтому они его не видят, и снова прошу доказать, что в комнате его нет. Большинство говорят, что невидимость — это обман, или что невидимое — нереально, но доказать это им трудно. Или они спрашивают: «А откуда вы знаете, что он розовый, раз он невидим?» — и тогда начинается совершенно отдельная заморочка.
— Что означает Алисин ответ? — спрашивает дедушка.
— Не знаю, — говорит Джасмин. — Алиса? Почему ты согласилась, что в этой комнате есть розовый слон, хотя очевидно, что его тут нет?
Теперь я устала, и мне охота перечить.
— Как это нет? — говорю я. — Мне показалось, вы говорили, что есть.
Джасмин смеется:
— Да-да. Мы обе знаем, что на самом деле его тут нет.
— Докажите, — говорю я.
И я думаю: я согласилась с ней потому, что устала, а еще сегодня воровала и врала, и вообще-то мне безразлично, есть в комнате розовый слон или нет. Если Джасмин угодно — что ж, отлично. Я даже с ней соглашусь. В конце концов, какое значение имеют реальность и истина? Прямо сейчас розовый слон, будь он в этой комнате, смог бы изменить мою жизнь лишь одним способом: сел бы на меня, чтобы я надолго загремела в больницу и больше никогда не увидела своих «подруг».
Взрослые снова смеются.
— Ну ладно, умники-разумники, — говорит дедушка. — Баиньки пора.
Во вторник утром, вскоре после завтрака, в мою дверь стучат. За дверью незнакомая женщина и мужчина, похожий на инженера. У женщины в руках планшет и пачка журналов под мышкой, а мужчина толкает тележку с телевизором и видаком.
— Это вы Алиса Батлер? — спрашивает женщина.
— Да, — говорю я.
— Хорошо. Мы вот вам телевизор привезли.
Я нахмуриваюсь:
— Но мне не нужен…
— И еще кассеты. Так как материалы, презентуемые сегодня остальным делегатам, все в формате видео, кто-то намекнул, что ваша болезнь не помешает вам поучаствовать. Так что мы принесли вам записи. Это Джон, наш местный техник. Сейчас он вам тут все подключит. — Она расплывается в улыбке. — О'кей?
— О'кей, — говорю я. — Спасибо.
Она вытаскивает из-под зажима планшета несколько листков А4 и протягивает мне. Заголовок — просто номер: 14. Подзаголовок гласит: «Взрослый или ребенок?» Она отмечает что-то на листке, оставшемся на планшете, и вручает мне стопку журналов.
— Эти штуки всем раздаются. Для помощи в ваших исследованиях.
Забрав у меня журналы, она кладет их в изножье кровати, вновь одаряет меня широкой улыбкой и исчезает. Почему это у людей с планшетами всегда такие жизнерадостные улыбки? Может, мне стоит завести планшет.
Сегодня я себя чувствую точно так же, как вчера, отчего на душе совсем погано. Пару дней валяться больной в постели еще ничего, но потом это слегка надоедает. Я пыталась усилием воли поправиться за ночь, но по-прежнему кашляю, да и в животе такая тяжесть, что стоит мне только пересечь комнату, и я уже устала как не знаю кто. Проснувшись утром, я сделала то, что всегда делаю по утрам, если у меня гриппуха. Серия экспериментальных действий: глубоко подышать, покашлять, сесть в кровати. Когда я больна, меня никогда не покидает надежда, что однажды утром я проснусь и чудесным образом почувствую себя лучше, что мой кашель (или что у меня там) просто исчезнет, его заберут у меня во сне феи, что ли, или еще какие магические существа. Но сегодня перемен нет. И все же, пока я была в душе, кто-то приходил и поменял постельное белье, а еще принес из прачечной кое-что постиранное из одежды; это мило. Хотя белье поменять я могла бы и сама.