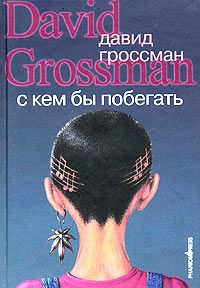В то же самое время Тамар заперлась в маленькой кабинке, покрытой вульгарными рисунками и надписями, в общественном туалете Эгеда[8]. Быстро сняла одежду – брюки "Ливайс" и тоненькую индийскую кофточку, которую родители купили ей в Лондоне. Разулась и встала на сандалии. Осталась стоять в трусах и лифчике, чувствуя отвращение к нечистому воздуху кабинки, который поспешил прилипнуть к её телу. Из большого рюкзака достала рюкзак поменьше, за ним – футболку и синий громоздкий комбинезон, запятнанный и порванный, соприкосновение с которым раздражало кожу.
– Привыкнешь, – подумала она и рывком натянула его. Поколебавшись минутку, сняла с запястья тоненький серебряный браслет, который получила на бат-мицву. И он был опасен: на нём было выгравировано её полное имя. Достала пару кроссовок и надела их. Она предпочитала сандалии, но чувствовала, что в ближайшие недели кроссовки подойдут ей больше: и для того, чтобы дать ей ощущение поддержки и собранности, и также, чтобы быстрее бежать, если за ней погонятся.
Был ещё дневник. Шесть тетрадей в твёрдых переплётах, упакованных в плотно закрытый бумажный пакет. Первая, с двенадцати лет, была тоньше остальных и ещё украшена цветными рисунками орхидей, Бемби, птичек и разбитых сердец. Последние, в гладких обложках, были намного толще и мелко исписаны. Они сильно утяжеляли рюкзак, но она не могла оставить их в доме, так как знала, что родители поспешат в них заглянуть. Теперь она засунула их поглубже в большой рюкзак, но через мгновение не смогла удержаться, вынула первую и пробежала глазами по листам, покрытым детским почерком. Заулыбалась. Рассеянно уселась на унитаз. Вот, здесь она в седьмом классе, а это её первый побег из дому, когда поехала с двумя подругами в Цемах[9] на концерт Типекса[10]. Какую безумную ночь они провели. Полистала дальше. "Лиат пришла на вечер в чёрном платье с блёстками и выглядела потрясающе". "Лиат танцевала с Гили Папушадо и была красива до слёз". Как это старые раны никогда не заживают до конца. Каждую секунду готовы вскрыться снова (но сейчас она должна выйти отсюда и уходить). Взяла другую тетрадь, двух-с-половиной-летней давности: "Её угнетает то, что она сейчас растёт. "Развивается". (Ненавижу!!! эти их слова!). Кому это сейчас нужно?", – остановилась. Попыталась вспомнить, почему писала о себе в третьем лице. Печально улыбнулась: конечно. Это тот период, сумасшедшие тренировки, чтобы закалить себя, сделаться как можно более толстокожей. Заставляла себя терпеть щекотку, снимала с себя – в самые холодные дни – свитер и куртку, и даже рубашку; или ходила босиком по улицам, по полям. И запись в третьем лице тоже была частью этого: "Любит маленькие и узкие места, как, например, промежуток между шкафом и стеной в её комнате, в который ещё месяц назад она могла влезть и сидеть там часами, а теперь её бесит, что она никогда больше не сможет туда вернуться!!!"
А на следующей странице, непонятно из-за чего, как в школьном наказании, ровно сто раз, она сосчитала: "Я пустая и никчемная девчонка, я пустая и никчемная девчонка".
Боже, подумала она, прислоняясь головой к сливному бачку, как я могла быть такой дурой.
Но тут же нашла свою первую встречу с книгой "И кулак был когда-то раскрытой рукой и пальцами" Иегуды Амихая, и наполнилась состраданием к той девочке, что писала: "У новорождённых рыбок есть белковый мешок. Я знаю, что эта книга будет моим белковым мешком. На всю жизнь". И через неделю решительно и непреклонно: "Чтобы были у меня б. г. я клянусь с этого дня и на всю оставшуюся жизнь смотреть на мир всегда удивлённо".
Горько усмехнулась. В последнее время мир прямо заставлял её смотреть на себя удивлённо, а потом возмущённо, и, наконец, с полным отчаянием. И единственное, что, в конце концов, сделало ей большие глаза, была эта причёска.
Быстро полистала, вперёд, назад. Посмеялась, повздыхала. Какое счастье, что решила почитать дневник, прежде чем отправилась в путь. Увидела себя распростёртой и обнажённой, как будто кто-то показал ей целый фильм, собранный из отдельных снимков, день за днём из её жизни. Ей уже нужно было выходить оттуда, Лея ждала её в ресторане с прощальным обедом, но она не могла выйти, если бы можно было не выходить на улицу, под эти взгляды. Как они смотрят на неё с тех пор, как обрила голову. Здесь, по крайней мере, она защищена. Одна, окружённая стенами. Вот она в четырнадцать лет, здесь она уже начала писать иногда зеркальным почерком вещи, которые особенно хотела скрыть: "Бедная мама, она так хотела родить девочку, чтобы всем с ней делиться, ладить с ней, открывать ей тайны женственности, и как это чудесно – быть женщиной, прямо Божий подарок. А что она получила? Меня".
Моя мама. Мой папа. Зажмурившись, отталкивала их от себя, но они снова жались к ней. Бывают в жизни ситуации, когда каждый сам за себя, сказал её папа во время последней ссоры. Хватит, пусть уйдут отсюда, когда всё кончится, она сможет о них подумать; с моей стороны вопрос закрыт, сказал он, и я больше пальцем не пошевельну, и посмотрел на неё с деланным равнодушием, и только правая бровь его дрожала, не переставая, как существо, живущее собственной жизнью. Медленно, напряжённо, сосредоточенным усилием она выбросила их из головы. Ей нельзя иметь с ними дела сейчас. Они только ослабляют и подавляют её. Сейчас они для неё не существуют. Она лихорадочно выхватила другую тетрадь, примерно полуторалетней давности. Здесь в её жизни уже появились Идан и Ади, и всё начало изменяться к лучшему. По крайней мере, она так думала. Она читала и не верила, что такие вещи занимали её ещё несколько месяцев назад. Идан сказал так и сделал так; постригся под Франца Иосифа и взял её, а не Ади, контролировать парикмахера, потому что ты практичнее, сказал он, и она не поняла, комплимент это или оскорбление, и удивилась, что кто-то считает её практичной. А поездка на фестиваль в Арад – кто-то украл их рюкзак с кошельками. У них осталось десять шекелей на троих; Идан взял инициативу в свои руки: в магазине канцтоваров купил пачку квитанций за девять шекелей. Потом послал их обеих собирать у людей взносы в "Общество борьбы с озоновой дырой".
А кружащее голову счастье, которое она испытывала, совершая такое мошенничество, такое преступление, чтобы принести ему вырученные деньги, а какую обжираловку они устроили, и у них ещё остались деньги на травку, они курили и ничего не чувствовали, и Идан с Ади непрерывно буянили и вещали про дикий драйв, а на обратном пути в автобусе Ади сидела с Иданом через два сиденья впереди неё, и всю дорогу оба истерически хохотали.
И среди этой ерунды разбросаны маленькие посторонние замечания, краткие сообщения о вещах, которым она тогда не придавала значения, они были как лёгкий шепоток, мало-помалу усилившийся до крика: мама и папа обнаружили пропажу афганского ковра, который висел на стене за дверью. Они тут же уволили домработницу, которая проработала у них семь лет. Потом пропали несколько сотен долларов из папиного ящика, тогда был уволен садовник-араб. Ещё был случай с машиной, счётчик которой указывал на очень длинную поездку, когда родители были в отпуске за границей. И тому подобные тени, скользившие у стен дома, на которые никто не решился направить слишком яркий свет.
В дверь сильно постучали. Уборщица. Кричала, что она сидит там уже час. Тамар сразу же крикнула резким голосом, что будет там, сколько захочет. Отдышалась, потревоженная грубым вторжением.
Когда начала читать последнюю тетрадь, поразилась, что всё было там подробно и совершенно открыто: план, пещера, список продуктов, опасности ожидаемые и непредвиденные. Эту тетрадь она обязана немедленно уничтожить. Даже в тайнике её нельзя оставлять. Пробежала глазами по листам. Нашла место, до которого она ещё позволяла себе что-то чувствовать – короткая ночная встреча возле кафе "Риф-раф" с кудрявым парнем с мягким взглядом, который показал ей сломанные пальцы руки и убежал, как будто она тоже была способна сделать с ним что-либо подобное – с этого места она сделалась непроницаемой, скупой на слова и писала, как секретарша засекреченной военной части: цели, задачи, опасности. Что выполнено, и что ещё предстоит.
Закрыла тетрадь. Глаза её остекленело смотрели на пошлый рисунок на двери. Если бы можно было взять дневник туда. Но нет, нельзя. Только что она будет без него делать. Как разберётся в себе, не делая записей. Бесчувственными пальцами выдернула первый лист и бросила его в унитаз между ногами. За ним ещё лист, и ещё. Стоп, что это? "Когда-то я много плакала и была полна надежд. Сегодня я много смеюсь, смеюсь отчаявшись". В воду. "Наверно, я всегда буду влюбляться в того, кто любит другую. Почему? Потому. Я хорошо умею попадать в безнадёжные ситуации. Каждый в чём-то талантлив". Разорвала. "Моё искусство? Ты что, не знала? Умереть в мгновении". Разорвала, яростно разорвала. Встала и постояла минутку, пережидая головокружение. Остались листы самых последних дней. Бесконечные споры с родителями, её крики и мольбы, и режущий сердце страх, когда поняла, что они действительно не способны ничего сделать, ни помочь ей, ни удержать её; что постигшая их трагедия опустошила и парализовала их, как какое-то колдовство, вынувшее их из самих себя, так, что от них осталась одна оболочка. Теперь только она сама может что-то сделать, если хватит смелости.