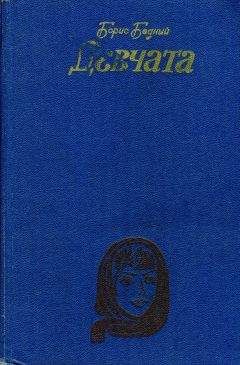Елена Михайловна Колодезная, сияя среди хуторян расцветшей своей красотой и возвышаясь над всеми, показала могучими оголенными руками:
— Вот здесь река образовалась. Тут была страсть господняя! Как зашли тучи от Спокойной, полосой, скрежещут, как танки гусеницами. Летели не градины — снаряды. Что ты! Крыши шиферные посыпались, как стекло. А грохотало — точно это пушки садили. Сначала тьма кромешная. А как прошумело, прогрохотало, глянули на гору — бело все, точно это ледник с Эльбруса сполз. А тут солнце. Как двинула вода, вот эту походку, — она показала оголенной рукой на техмашину с фургоном, — как щепку, понесло в овраг, вон там уткнулась. Два овчарника смыло. А овец погибло сколько! Как подхватило — только мелькают!
Лида Коровомойцева пригладила, улыбаясь, голубой свой цветок, глядя на него своими нежными голубыми глазами, сказала:
— Пятнадцатого мая это было, никогда не забудем.
— Разве такое забудешь?
Лида продолжала, вертя в пальцах цветок:
— Град прошел перед обедом, часа два шел, а потом как взяло солнце! Как начало таять — из каждой балки река…
И опять отовсюду засверкали голоса и глаза:
— Да что ты! Птичник, что был за Казачьей, ты его должен помнить, так и слизало. Надвинулась гора льда. Смяло, затопило, обломки в Уруп снесло. Две кошары смыло. А овец как подхватило. И с катавалов, где паслись, и с база, к бонитировке и стрижке готовили. Как понесло. В волнах, среди сбившихся, как масло, льдин, лезут друг на дружку. Давят, топят, барахтаются. А которые уже и вздулись; как подушки, плывут. Да что ты! Мы кинулись спасать. Все, кто тут был. И стар и мал.
— Внук мой, ему восемь исполнится вот, и тот спасал, — грубым голосом протрубила Мошичка.
— Все кинулись?
— Да что ты, Ваня! Наши ж овцы, нашего хозяйства. Начальство понаехало… Новый секретарь райкома, Червонов, и тот вытаскивал.
— Да тут все были героями, Ванюшка! Все как один совершали героизм! — кричала Пащенчиха, стараясь быть на виду. А кругом кипели, сверкали, взлетали голоса:
— Что тут было, если бы ты видел! Вот тут, внизу, день и ночь костры горели. Вода ледяная, вперемешку с градинами. Вылезешь, вытащишь какую, отогреешься и — опять в воду.
— Да и овец отогревали, — могучим голосом сказал подошедший кузнец-богатырь Иван Колодезный. Мы обнялись. А Пащенчиха, чтобы я обращал на нее внимание, дергала меня и кричала:
— Если будешь писать, то всех подряд пиши! Никого не пропускай! Все героями были, и ты всех указывай, чтобы нас все знали. И вот Лиду. И Лену вот. И Ивана Михайловича. И Ивана Павловича. И Нину Гусеву. И Шуру вот. Всех подряд пиши!
— Она правильно говорит, — гулким красивым голосом произнес кузнец-богатырь. И Пащенчиха аж взвилась:
— Я правильно говорю! Меня слушай, больш никого!
— Да что ты! Тут кругом черно было после града. Поля перепахивали и пересевали. А Сема и Кожемяка Иван, приезжий, ты его не знаешь, в больнице лежат.
— Сема — в больнице?
— До сих пор! Его, бедолажку, как ударило балкой, а потом — бортом машины!.. Он сделался прямо шальной: так и кидается в буруны! Больше десяти, должно, вытащил. Зуб на зуб не попадает, а все рвется. Полез за одной, вон туда, к Исаихину огороду прибилась, а его — балкой!
— Бревном, Ванюшка! Никого не слушай, только меня! Бревном с овчарника! Я сама видела!
— Как раз плыло и во что-то уперлось. — Это Лена Колодезная.
— Да вон за тот камень.
— Ее перевернуло, как спичку, балку, и Сему — по голове.
— Думали, все. Конец. А он вынырнул, плывет к машине, которую несло к нему, вцепился в борт одной рукой, а овечку не отпускает. А тут как прорвет в Сурихином огороде, в Сурихином огороде затор был, вон там, как хлынет, машину перевернуло волной, и Сему — бортом. А Кожемяка, шофер, кинулся его спасать. Нырнул с разгона, долго не было, вынырнул с Семой, должно, метров за сто. А машину опять перевернуло да на Кожемяку. Кинулись обоих спасать. Иван Михайлович вот. Николай Гусаков, Серега Безменов. Вытащили. А Семина рука как прикипела к овечке.
— Сема и Кожемяка до сих пор в больнице. Кожемяка очумался.
— Он же здоровенный! — засмеялся кто-то.
— Да по нему хоть трактором проедь — ничего не сделается, — кричала Пащенчиха. — Он вот как Иван Михайлович.
— Меньше, — ревниво сказал сам кузнец красивым голосом. И ее одернули, подражая могучему кузнецу:
— Меньше, чего ты? До Ивана Михайловича ему далеко.
— Пускай меньше, а все равно уже за медсестрами ухаживает, — не сдавалась Пащенчиха.
— Он нигде не проморгает, — сказал сверху Колодезный. И все засмеялись:
— Такой нигде не пропадет! Верно!
— А Сема и так жалкий, — сказала, приглаживая цветок, Лида Коровомойцева, — а тут его бревном да еще бортом! — И в глазах ее раскрылись голубые слезы. — То, было, про овчарку рассказывал и всех утешал балалайкой, а теперь все про град, про овечек и про машину, которая на него перевернулась.
— Бывает, и то вспоминает, я был у него, — мощным красивым голосом бархатил сверху кузнец-богатырь. — И балалайка всегда в руке.
— А Ефим Иванович как? — спросил я.
— Ефим Иванович все время возле него. Или в парке, напротив. Сядет — весь как из снега — и на Вечный огонь смотрит. Ефим Иванович дюже загоревал.
— Да такого еще жалчей, — выделился грубый голос Мошички.
12
Мы поднялись на Иногороднюю, и глазам предстала другая половина Труболета, та, где когда-то жила бабушка Ирина, где жили Липченок, Сугонякин. Эта сторона хутора нисколько не изменилась: те же бурьяны, колюче кучерявящиеся от кладбищенского отрога, на котором, позванивая колокольчиком, паслась комолая корова с теленком; те же залопушевшие бугры на месте былых подворий. Эта сторона, красиво и гордо называвшаяся Казачьей, где мы, детвора, подражая взрослым парубкам и девчатам, выпевали в лунные ночи только еще завязывающуюся в нас любовь возле чьего-нибудь двора, на лавочке, эта сторона нисколько не изменилась с тех пор, как я приезжал. Только прошедшее время вырвало еще несколько хат. Нет хаты Пезиных — вон жирно разлопушился и хозяйственно поднял уже наиглившиеся, но еще нераскрывшиеся головки, набирающий злую силу дурман. Нет хаты Вари Хачунской, которая была замужем за дядей Федей и выехала с хутора, как только получила «бумагу». Нет хаты Шемигона — вон только ряд вишен, как давно несменяемые караульные. Вон еще глядят ранами кирпичи. Это от печки бабушки Поляковой, потерявшей в войну двоих сыновей и воспитавшей троих беспризорников.
Вспомнив о Поляковой, я подумал о Сгарских, оглянулся. Дома Сгарских, стоявшего на круче, лицом к Урупу, не было: за кирпичными строениями в лесах и подъемных кранах я не тотчас разглядел, не тотчас даже нашел то место, где жили Сгарские. Опять повернулся к бабушкиной стороне: после невольного взгляда на новый Труболет с горы Казачья сторона произвела еще более удручающее впечатление. Даже голубой, увитый виноградником и повителью терем Сугонякина с петушками и рыбками на гребне, с расписными резными ставнями, наличниками, фронтонами, крылечком, даже сказочное подворье Сугонякина выглядело на этой стороне как-то жалко и сиро. А приткнувшаяся к Казачьей хата Липченка вовсе казалась заброшенной и голой: ни клетушек, ни сада, ни плетня, ни калитки. Только цветы в окнах и под окнами да одинокий курник, из которого выглядывали сокорящие куры.
— А Липченок как тут?
— О, Липченок живет! Липченок теперь — куда! — отвечало несколько голосов. — Филипп Иванович наш зажил!
Даже пищала что-то радостное про Липченка черноглазая пичужка, которую поставил на землю впереди себя наш Алеша Попович; но тот ее сейчас же взревновал, взял за руку и повел к столовой. Ну, она ж и была! Издали привораживает глазами, а вблизи — ну, боже ты мой! Белолицая, яркогубая, с огненными черными глазами, вся как выточенная! Ух ты черт! Бывает же!
— Он же квартиру себе в новом доме наметил! — кричала и лезла в глаза Преграденская. — Слышь, Ванюшка? Он же себе квартиру в новом доме облюбовал!
За перелесицей голосов я не сразу понял, какую себе квартиру облюбовал Липченок, спросил:
— А с Харитиной Ивановной как?
— Живу-ут! — кричали. — Еще бы им не жить!
А Преграденская лезла вперед, чтобы выделиться:
— Их, Ванюшка, водой не разольешь! Он же сторожует на стройке. Ночью сторожует, а днем на делянках ученых — воробьев гоняет. У него деньги кругом сыплются. Харитина теперь за ним — куда!
— Тьфу на тебя! Ты и скажешь! — недовольно перебила ее грубым голосом Мошичка, все так же держась одной рукой за подбородок и поддерживая эту руку другою. — Они всегда жили хорошо и без твоих денег. Ты не знаешь, из-за чего они ссорились, а я знаю, мы соседями были.