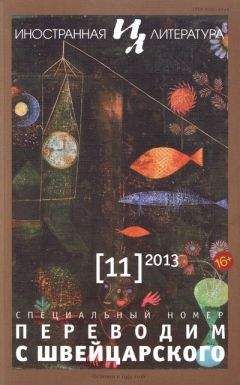Иоганна заказала еду, разумеется, по-французски. Мы с Катариной взяли фруктовый пирог и кофе.
„Каспар, ты слишком мало ешь!“ — обратилась ко мне Иоганна. И перед глазами опять встала индюшка с трясущимся красным горлом.
В привокзальном буфете пахло рвотой. Мы с Катариной ели за отдельным столиком. Разговор за соседним столом перерос в ропот недовольства. Дело в том, что еду, заказанную Иоганной, принесли, но напутали и подали не то. Возник небольшой скандальчик. Дело попытались уладить. На лицах посетителей за другими столиками расцвела улыбочка, хотя и не очень добрая. Мы между тем получили свой пирог и кофе. Пирог был вкусный.
За едой я поглядывал вокруг. „Эти итальяшки как-то живее, — подумал я, — да и благороднее“. Сообразил, что Филиппу десятилетиями приходилось общаться с ними.
Через высокие окна падал свет, холодный, какой-то городской зимний свет. Я полностью отдался во власть мгновения, изображая Филиппа, который частенько здесь сиживал. Я добавил к свету рвотного запаха, подмешал недовольного ропота, хождение туда-сюда, звяканье приборов, звон бокалов — и, выпив эту микстуру, добился ощущения легкого блаженства.
Сделали попытку заплатить. Опять разыгрался небольшой спектакль. В результате за всех заплатила Фрида — всю сумму.
Надели плащи, нашли туалет — те, кому он был нужен, разумеется.
Я спросил, не хочет ли кто-нибудь еще раз пройтись по городу и оттуда уже поехать в крематорий. Время-то есть. Договорившись, двинулись прочь парадным маршем, сокрушая рвотный запах. Шагая к озеру, миновали угодья, подвигнувшие дочь к восклицанию: „Папа, до чего прекрасно! Хотела бы я там жить“. Гизела шла со мной под ручку. Было холодно, но ясно.
Спустившись вниз, решили было, что видим перед собой музей. Это оказалось здание почты. Я вспомнил, что в здешнем музее должно висеть несколько полотен Ходлера[5], среди них — пейзаж с вишней, таким юным и хрупким вишневым деревцем в осеннем наряде, и еще картина с изображением улицы, которая уводит к горизонту, прямая как стрела, слева и справа обрамленная каштанами. Каштаны не особенно пышные и стоят не густо, как обычно вдоль аллей, а гораздо реже.
Справа располагался ресторан, где мы с Филиппом как-то перекусывали, прямо на бульваре. Слева, в гавани, стояли корабли. Прошли вперед, там надо было повернуть под прямым углом, прошагать мимо солидной шеренги желтых имперских фасадов, а по левую руку уже открылось озеро, и над ним гулял зимний ветер, который, конечно, долетал и до набережной, засаженной платанами, за которыми на берегу виднелись те самые желтые строения, создававшие атмосферу больших городов, не в последнюю очередь благодаря дующему с востока ветру.
Людей, кроме нас, почти не было. Какая-то женщина кормила чаек. Уцепившись за Гизелу, одетую в черное (как и Иоганна), я то и дело оборачивался, наблюдая за чаячьим балетом. В центре большой стаи чаек упомянутая женщина выглядела как хореограф (она тоже была вся в черном), в то время как наша благородная массовка, казалось, благотворно влияла на представление, придавая ему, однако, оттенки хичкоковского сценария, потому что все задавались вопросом: „Хорошо, а что мы будем делать, если эти чайки внезапно на нас нападут?“
Найдя нужную автобусную остановку, мы еще раз выпили кофе в чайной напротив.
Когда мы вышли на остановке „Крематорий“, стало еще холоднее. Справа, на склоне, виднелось желтое здание, со всех сторон окруженное деревьями. По дороге к кладбищу мы встретили квартирную хозяйку Филиппа. Поблагодарили ее. Недалеко от лестницы заметили детей Филиппа. Они разговаривали с каким-то знакомым. Племянников было не узнать. Собралось шестнадцать человек. Когда все спустились вниз по лестнице, похоронный служащий дал знак подойти ближе. При входе в ритуальный зал в глаза сразу бросался венок из еловых веток, огромный, с красными розами и красными гвоздиками. Он стоял на фоне тяжелого лилового занавеса. На полу также несколько ваз с цветами и гроб.
Все расселись по местам. Заиграл невидимый орган. Неслышно вошел молодой священник. Орган смолк. Священник начал говорить, по-французски разумеется.
„Французский надо бы знать“, — подумал я. И тут же: Филипп, тебе жилось нелегко. Но в то же время тебе жилось хорошо. Ты умел жить, остановив мгновение. А потом не смог. Мы постараемся держаться твоих принципов… Ты умел играть на аккордеоне. Ты мог на слух подбирать так называемые народные мелодии, только раз услышав их. И знаешь, Филипп, у тебя всегда были такие узкие, длинные, но главное — остроносые ботинки, чести донашивать которые был удостоен именно я. В техникуме я тоже носил такие, то есть это были твои ботинки. И во время перерывов, когда мне приходилось проходить мимо групп техников, у меня было ощущение, что непременно надо наклоняться вперед, но не из-за техников, а скорее из-за ботинок, потому что, когда слегка наклонишься, края брючин лучше закрывают ботинки.
Я никогда не стыдился тебя, Филипп, только самую малость — из-за ботинок. Летние туфли у тебя были, как правило, с дырочками. А помнишь, Филипп, как ты подвесил мяч в бывшей конюшне, на резинке, закрепленной вверху на потолке и внизу на земле? А как ты прыгал — легко, словно перышко? А как бил по мячу? Ты еще там, в конюшне, повесил мешок с песком, тяжелый такой. И ты убивался над ним в прямом смысле этого слова. Я до сих не могу понять, как это все вынесли твои суставы, локти и ключицы.
А ты помнишь, Филипп, как доктор пришел извиняться, когда умерла Лина, потому что за два-три дня до этого он сказал, что Лина — симулянтка? Ты ведь помнишь, как больно нам было слышать эти слова доктора, когда он назвал твою Лину симулянткой? И помнишь, как руки Лины в агонии пытались завести часы? И ты точно должен помнить, как потом, над траурной процессией, впереди, у поворота дороги, трепетали цветы вишни. Потом ты уехал в романскую Швейцарию. И остался там. Женился на другой. А потом однажды позвонил мне и сказал — голосом, который трудно было узнать: „Каспар, у меня рак гортани. Завтра операция“.
Позже ты своими боксерскими руками пытался помогать себе, когда говорил, но эти звуки уже нельзя было назвать речью. Ты кашлял через специальное кольцо, вделанное в шею. И тебе приходилось прочищать горло через это кольцо особой щеткой, тонкой и длинной.
Потом тебя бросила жена, забрав с собой детей. Старший сын, Филипп, завел себе тяжелый мотоцикл, наверное, почти такой же, какой был когда-то у свояка Фердинанда. Ты ведь в курсе, у него был этот знаменитый „Харли-Дэвидсон“. Мы ведь с тобой в детстве то никогда таких мотоциклов не видели. И помнишь, как мы гордились тем, что у нашего свояка, то есть у мужа нашей Гизелы, был настоящий „Харли-Дэвидсон“? И как они на нем выезжали по воскресеньям, и Гизела ехала в коляске сбоку? И как Фердинанд стоял потом за домом и, глядя на вишню в нашем саду, говорил: „Я не допущу, чтобы вишни вымахивали такие высокие. Все верхушки буду спиливать. Не нравится мне, когда вишни высокие“. Помнишь все это, Филипп?
Кстати, белоцветники, которые мы собирали в Левентале, расцветают по-прежнему. Когда они цветут, я сажусь перед ними на корточки и жду, когда порыв ветра принесет аромат.
Потом ты попросил сына завести себе автомобиль, потому что считал мотоцикл слишком опасным. На этом автомобиле он и врезался в стену. На его кремации ты еще смог присутствовать. А потом остался практически один. Однажды ты сообщил мне, что у тебя появилась подруга. Я сегодня пытался отыскать ее в толпе… Сейчас твои кости, твои глаза, твое сердце сжигают. Для тебя больше нет тени, нет зимы», — сказал Баур, пристально глядя на пылающие угли.
Свечи догорели.
Катарина хотела было подлить вина. Бутылка оказалась пуста.
Музыка стихла. Баур сказал, что сейчас надо было бы поставить Четвертую симфонию Шостаковича, но уже поздно.
Доели последние орешки. Из центра Амрайна звуки рожков, возгласы, барабанный бой слышались теперь с такой интенсивностью, что было ясно: карнавал достиг своего апогея.
Катарина принесла сверху три свечи, вставила их в шведские фарфоровые подсвечники, зажгла свечи. Баур подложил еще дров. И потом заходил взад-вперед, так сказать, по своему исторически сложившемуся маршруту.
Я подумал о том утре Бородинской битвы, когда над Колочею, в Бородине и по обеим сторонам его, особенно влево, там, где в болотистых берегах река Война впадает в реку Колочу, стоял тот туман, который тает, расплывается и просвечивает при выходе яркого солнца и волшебно окрашивает и очерчивает все виднеющееся сквозь него. К этому туману присоединялся дым выстрелов, и по этому туману и дыму везде блестели молнии утреннего света — то по воде, то по росе, то по штыкам войск, толпившихся по берегам и в Бородине. Сквозь туман этот виднелась белая церковь, кое-где крыши изб Бородина, кое-где сплошные массы солдат, кое-где зеленые ящики, пушки. И все это двигалось или казалось движущимся, потому что туман и дым тянулись по всему этому пространству. Как в этой местности низов около Бородина, покрытых туманом, так и вне его, выше и особенно левее по всей линии, по лесам, по полям, в низах, на вершинах возвышений, зарождались беспрестанно сами собой, из ничего, пушечные, то одинокие, то гуртовые, то редкие, то частые клубы дымов, которые, распухая, разрастаясь, клубясь, сливаясь, виднелись по всему этому пространству…[6]