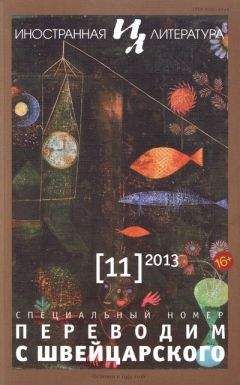Герхард Майер
Бородино
Роман
Если допустить, что жизнь человеческая может управляться разумом, — то уничтожится возможность жизни.
Лев Толстой «Война и мир»[1]
«Я не хотел отвечать, Биндшедлер. Потом пришло повторное приглашение. Речь шла о юбилейной встрече. Мобилизовали нас как раз сорок лет назад. Многих и в живых-то уже нет. А встретимся еще раз, годика через три, допустим, так еще меньше останется…» — сказал Баур, шагнул к окну, вернулся к камину, опять к окну, заметил паутинку на ветке форзиции, вновь встал у камина.
«Значит, надо встрепенуться, надо включиться в процесс, освободить 11 ноября, оценить возможность поддержать отношения с друзьями, обменяться воспоминаниями.
И ровно в тот день, Биндшедлер, то есть именно когда была встреча, небо прояснилось. Установился восточный ветер, чем-то вроде запаха истории повеяло над местностью, и понеслись звуки труб, правда, неслышные. Настал ясный день», — сказал Баур. Он притулился к керамической облицовке камина, которая спереди, над топкой, образовывала каминную полку, где стояли три фарфоровые подставки, в двух торчали огарки свечей, в средней свеча полностью догорела.
Солнечные пятна на персидском ковре тем временем слегка побледнели.
«11 ноября я довольно рано прибыл в гарнизонный город. Стал слоняться вокруг техникума (ты же в курсе, я там высотному строительству обучался). К круглому фонтану отправился, к тому, который позади Липовой рощи. Погрузился взглядом в окно гимназии по эту сторону рощи, в котором, как нарочно, отражалось небо. Напомнил себе, что за таким же точно окном наверняка то и дело декламируют стихи, в том числе хрестоматийный стишок Гёте про розочку, и смотрят в глаза гимназистки, отражающие небо, небо над пустошью, где росла та самая розочка», — сказал Баур, заложив руки за спину и уставившись в какую-то точку в глубине сада.
«А потом, Биндшедлер, я зашагал по направлению к Городскому дому — месту нашего заседания. Дойдя до него, я развернулся и вновь направился к техникуму. Не без труда разминулся с целым отрядом бывших. Пересек кампус Высшей технической школы. Пошел своим когда-то обычным маршрутом, когда на переменках гулял. Но обсерватории по пути уже не встретил. Приблизился к вилле торговца сырами. Перед нею встал надолго. Полностью погрузился в мир фонтанов, с трех сторон окруженных фигурами Серебряного века. Лестницу обрамляли каменные ангелы, и я переводил взгляд с одного на другого.
Подумал о как минимум пятидесяти летних курортных сезонах, которые эти ангелы здесь выдержали, не состарившись и даже поз своих не поменяв», — сказал Баур, слегка скрестив ноги.
Я подумал о княжне Марье, о том месте из «Войны и мира» Толстого, где она решается отправиться в странствия. Потом перед глазами поплыли Праценские высоты, где князь Андрей Болконский (ее брат) лежал, истекающий кровью, сжимая древко знамени. И где он впервые в жизни обратил внимание на небо, на высоту, тишину, бесконечность небесного свода. Где он лежал, освободившись от страданий, желаний, надежд, открытый таинствам этого мира.
Я сидел нога на ногу. Смотрел через окно вдаль. Потом стал наблюдать за Бауром, который в данный момент ходил взад и вперед, то и дело посматривая за окно на ветку форзиции, которая вот-вот распустится.
«Когда я вернулся обратно к Городскому дому, Биндшедлер, туда как раз входила группа бывших. Я опознал только одного: Эрнст Шютц, ну помнишь, с которым мы еще вместе школу рекрутов заканчивали.
Поздоровались.
Я стал прикреплять юбилейный значок на воротник с левой стороны. Шютц мне помог. Кто-то протянул мне руку, представился, назвал меня по имени.
„Да-да, привет, Шаад“, — сказал я с радостной улыбкой, а про себя подумал: как бедняга изменился!
Вошли в холл гостиницы. За столиком сидел Фриц Цуллигер, он раздавал пригласительные билеты — за деньги. Фурье стоял рядом с ним, наш любезный служака из третьего полка. Он постарел. Носил усы.
Стояли все вместе, одной толпой.
Привыкали к именам.
„Фриц Хабеггер здесь?“ — спросил я. Мне сказали, что он уже внутри. И ротные пришли, и командиры взводов, вахтмейстеры, капралы, и майор Босхардт — тоже.
Пошли наверх в парадный зал. Столы были составлены в четыре ряда. Впереди — площадка для оркестра. На возвышении — стол в торце наших рядов, там сидели начальники. Третий взвод расположился за столами вдоль окон. Командир взвода Маттер пришел, вахтмейстер Эггер, Яун из стрелковых частей, который, казалось, пережил десятилетия, словно ангелы торговца сырами. С краю за столом обнаружил Фрица Хабеггера. Поздоровался. Подошел к нему. Положил ему руку на плечо. Сказал: „Фриц Хабеггер, стоит мне завести речь про действительную службу, как ты тут же приходишь на ум. Я говорю тогда, что вот тебя-то я бы без проблем всегда узнал, и ночью, и в лесу, и в любом другом месте, да на любом расстоянии, ей-богу. Всегда бы узнал тебя по бряканью котелка, по шагам или по кашлю. Да-да, ей-богу!!“
Хабеггер посмотрел на меня… Произнес: „Я тебя не знаю“.
Оркестр заиграл марш.
Фельдфебель Крэтли изображал бурную радость по поводу того, что собралось (последовало зову) так много бывших (168, по моим подсчетам). Он поприветствовал офицеров: капитана Ребера (теперь он — бригадир-полковник), капитана Амманна (теперь — подполковник), майора Босхардта (теперь он — полковник). Командир полка явился позже, высокий, худой, старый-престарый полковник Бахман, который когда-то принимал у нас присягу на пехотном полигоне. У него утром встреча была с однополчанами еще с Первой мировой», — сказал Баур и принялся прохаживаться туда-сюда.
«Биндшедлер, прекратив обороняться, мы дни напролет отступали на запад, шли ночами. Вдали громыхала гроза. „Они стреляли из Толстой Берты (гигантская немецкая пушка времен Первой мировой войны)“, — сказал я.
Пулеметчик Зуттер расслышал что-то о „толстых“ ружьях. И с тех пор его легкий пулемет стали называть толстым», — сказал Баур, прислонясь к камину.
Перед глазами у меня замаячили цепи гор, над которыми бушевала гроза. Я сказал Бауру, что у меня в памяти тоже запечатлелось то недоразумение во время ночного марша. И что пару лет назад я снова прошел весь тот маршрут.
«Итак, фельдфебель Крэтли выступил перед нами с приветственным обращением. Стали подавать еду: суп-лапшу с блинами, жаркое с картошкой, овощной салат. Лейтенант Маттер заказал красное вино. Ели. Чокались. Пили.
Биндшедлер, а для меня весь этот зал превратился в одну ледяную глыбу, в которую вмерзли лица, фигуры. Причем лед этот не казался местным, из наших ледников, это был лед русской тундры.
И с каждым взглядом, с каждым куском жаркого, с каждым глотком красного вина ледяная глыба подтаивала. Чем больше глотаешь картошки и мяса, тем отчетливее, тем живее, тем достовернее становятся люди за четырьмя столами.
Так что я лопал без остановки.
Таяние льда сопровождалось какими-то особенными звуками, какой-то свист воздуха, что ли, слышался, ветерка, гулявшего по каменоломням, где, бывало, упражняешься, занимаешься самоподготовкой, а от границы в это время доносится рокот орудий», — сказал Баур, опять уставившись в какую-то одну точку за окном, закинув руки за спину. Солнечные пятна тем временем уже немного сдвинулись. «Биндшедлер, мне не хватало Вилли Бютикофера, дояра из Винигер-Берге. Йохана Лемана мне не хватало, смешливого батрака из Эмменталя. Пауля Шаада, изготовителя циферблатов из Верденбурга, — мне даже показалось было, что я с ним поздоровался, — не хватало тоже. И еще много кого», — сказал Баур.
Я посмотрел в окно, за большой выгон, принадлежавший торговцу яйцами. Увидел, как Наполеон смотрит за Неман, в подзорную трубу, разумеется, используя пажа в качестве штатива. Утверждают, мол, Наполеон решил, что видит вдали русские степи, посреди которых и находится Москва. Какой-то уланский полковник, поляк, в безумном порыве воодушевления от присутствия Наполеона, ринулся со всем своим отрядом форсировать реку, и во время переправы сорок уланов из пятидесяти утонули вместе с лошадьми. Говорят, что Наполеон, не очень-то одобрив в целом этот показной героизм, позже наградил полковника орденом Почетного легиона — легиона, которым распоряжался лично. «Солнце сияло по-прежнему, хотя оно и было холодным, если можно так выразиться. Во время передышек, когда не надо было напрямую контактировать с ледяной глыбой (в которой происходили упомянутые изменения, сопровождаемые теми звуками), я смотрел в окно, где в поле моего зрения попадали, по крайней мере, три или четыре флага, висевших над улицей на натянутой веревке. Их трепал легкий восточный ветерок. Они были исполнены благородства и словно погружены в размышления, исторического толка, разумеется, — причем один из них, самый большой, флаг Швейцарской Конфедерации, вытягивался по ветру и реял почти горизонтально, потом опадал и начинал трепетать.