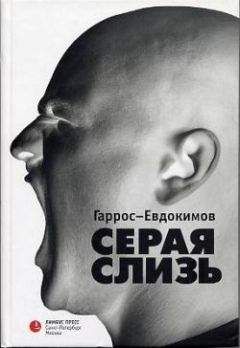– А я с забавным парнем сегодня познакомилась, – чуть провоцирующе говорит она.
– Парнем? – покорно поддаюсь на провокацию.
– Ага. В “Кугитисе”.
– Ну-ка, ну-ка…
– Не, ну зашли мы с Нинкой, как обычно, перекусить. Он подсел, начал с ходу клеиться. Откровенно, но, скажу тебе, умело. Более того, артистически. Даже и не пошлешь…
– Все интереснее и интереснее, – придерживая пепелку, чтоб не перевернуть, поворачиваюсь к ней. – И чем же он был забавен?
– Заливал классно. Не, правда, заслушаешься. И вообще… – косится на меня, – такой мачо. Арийский красавец. Блондин. При этом, приколи, грузин.
– Чего?
– Ну. Причем, по-моему, он не врал. Или если врал, то талантливо. Про грузино-абхазскую войну рассказывал. Я сразу тебя вспомнила…
– Значит, все-таки вспомнила…
Глядя в потолок, ухмыляется:
– Точнее, даже раньше вспомнила. Куртка у него была, как у тебя. Экстремальная… А зовут, знаешь, как? Коба. Нинка думала, что это кличка, так он почти обиделся. Это у Сталина, говорит, кличка, а у меня – имя.
– Он сказал, его так зовут?
– Да… А что?
– Да нет, – медленно отваливаюсь на спину, – ничего… Как он выглядел?
– А чего это ты так заволновался?.. Хорошо выглядел. Лет, наверное, под тридцать, такой крупненький. Высокий, бицепсы, полный порядок. И я говорю, блондин. Нибелунг такой…
– Чего – и номерок оставил?
– Извини, Дэн… Вот тут мы с Нинкой стормозили. Ты не обижайся. Сами простить себе не можем…
– Бошо, шэни дэда ватире, гижи хар?.. Дацхнарди, мамадзагло!
По уху прилетает чувствительно: маскировочная сеть, наброшенная на двор (бумажная, ничуть вчерашней грозой не размоченная трава, мясистые мандариновые и магнолиевые листья, щербатые плитки дорожки, радужный султанчик из вечно сифонящего крана, старенький седой Чапа на подстилке) протекающим сквозь резные акации солнцем, выцветает на секунду, становясь из желто-зеленой бело-серой.
– У-уймись, брюсли хренов!
На сей раз он ограничивается щелбаном и выставленной раскрытой ладонью; я азартно молочу по ней, имитируя только что зацененное: завораживающе-смертоносное, красочно-неуловимое. Я посмотрел свой первый кунфуюшник с Брюсом: “Яростный кулак”. Недруги из японской школы “Бусидо” ложатся веером, злой русский чемпион Максим Петрофф скалит квадратные зубы под уланскими усами. Это вообще мой первый видИк – и первый видАк тоже: нехилый черный ящик с золотыми буковками Philips на фасаде… По-брюсовски подвываю диким котом и пытаюсь подпрыгнуть, выбрасывая ногу. Шлепаюсь на задницу. Почему-то нытьем отзывается залепленная пластырем коленка – ссадил вчера, ныряя с осклизлого, заплесневело-бородавчатого, как порченый колбасный батон, волнолома.
– Ну чего, все?
Челидзе. Это его – их – фамилия. Не наше “ч” – другое: с взрывным горским цоканьем. Есть у них такие “ч”, “ц”, “х” – выстреливаемые с прижатого к верхнему небу, зубам, нижнему небу напряженного языка. Приезжим, демонстрируя неприступность грузинской фонетики, предлагают обычно повторить фразу “лягушка квакает в пруду” – “бахахи цхалщи хихинебс”, со всеми положенными щелчками и гортанностями. Приезжие ломаются и впечатляются. Я ловлю лягушку без труда. Говорят, у меня даже бойкий лечхумский (у Челидзе позаимствованный) акцент. Это льготная подпитка для чувства собственного превосходства: на местных можно смотреть свысока, с позиции цивильного северного пришельца, на безъязыких приезжих, усеивающих потными тушками галечный пляж, поглядывать с презрением аборигена. Но это позже. Пока меня такие материи не колышут. Мне девять лет. Я захвачен Брюсом Ли.
– Коба, а где он с тигром дерется, у тебя тоже кино есть?
– С тигром – это не он, – опровергает авторитетно. – Это Брюслай. Сын его, понял?
Он длинный для своих четырнадцати, Коба, кадыкастый, тощий, но жилистый (очень сильный: десяток метров от калитки до дома на руках – не проблема), всегда прямой и чуть откинутый назад – осанка жокея на выездке. В нем уже есть небрежный и необидно-высокомерный аристократизм, отличающий породистых кавказцев. Он уже любит цветастые гавайки с косым раскидистым воротом. Он уже ходит на дискотеки и нравится девочкам – но это меня тоже пока не волнует.
– Коба, мы купаться пойдем?
– Обед сейчас будет. Вечером пойдем.
– А ты маску мне дашь? Ну пожалста… …Наши деды воевали вместе – рубились с мессерами еще на «ишаках», потом на «ЯКах»… Антон закончил войну майором и женился на моей бабушке. Рубена сбили в сорок третьем. Он попал в лагерь – маленький, на баварском юге фатерлянда, – полгода лудил солдатские миски, потом бежал: через подкоп вылезли сорок семь человек, сорока двух переловили и расстреляли. Рубен пробрался через Австрию в Италию, прибился там к партизанам, стал – отменные глазомер с реакцией – пулеметчиком, потом – уже во Франции – воевал вместе с маки… Первую несоветскую медаль вручал ему – в общем строю наградников – лично де Голль. В сорок пятом французы и итальянцы дали Рубену по ордену. В сорок шестом он вернулся в Союз. Посадили сразу. Выпустили через год: какого-то чина из гэбухи удалось результативно подмазать… Дед Антон встретил деда Рубена в семьдесят седьмом; точнее, это Рубен его встретил – нашел.
Когда родился я, Каманины с Челидзе уже дружили семьями – и сызмальства меня с Андрюхой каждое лето сажали на рейсовую “тушку”, сорок пять руб. билет, а дядя Анзор, сын Рубена, большой человек, тучный и удивительно подвижный начальник стройтреста, подбирал нас в копошении адлерского аэропорта и на дребезжащей черной “двадцатьчетверке” (шоферов всегда почему-то звали Вовик или Владик) вез через еще не пограничную речку Псоу в Гагры. Слева от шоссе дыбился горный задник, справа бликовала темно-синяя акватория, на въезде в город трещала пергаментными лопастями шеренга волосатых пальм, за ними ныряла в зелень розовая сталинско-курортная колоннада знаменитого гагринского парка (беседки, зеленые бамбуковые удочки, прорежающие их коленчатую густоту прудики с воткнутыми в ил розовыми – в тон колоннаде – флажками фламинго), за ней отползал к пляжу похожий на дешевенький мафон кинотеатр, дальше – крутой разворот возле пропыленного двухэтажного универмага – переполошенно кудахчут протянутые вдоль улочки клети-курятники, – и калитка Старого Дома. Два с половиной месяца влажно обжаривающего солнца, щекочущей кожу морской соли, упрямой пляжной гальки, маслянисто-манящего чебуречного духа по дороге к морю и ленивой картежной перебранки над ухом…
Я не уверен, что Коба успел так уж сильно на меня повлиять: да, я, в сущности, держал его за брата, старшего, практически равноправного с Андрюхой (который в мои сознательные годы в Гагры летал уже ненадолго, на пару недель от силы – уже начались его спортлагеря, его сборы и чемпионаты), – но дело ограничивалось все-таки летними, каникулярными, месяцами, и Коба все-таки был меня сильно старше, и у него были свои друзья, у него были девочки, и девушки, и девицы, а я, зеленый вполне, оказывался частенько попросту обузой для их плейбойской компашки… И все-таки чем-то очень важным он цепанул меня тогда, Коба, – наверное, этой вот всегдашней благожелательной готовностью к активному, реактивному совместному веселью – и одновременно спокойным, сдержанно-сдерживающим ощущением личностной дистанции, которую – без его позволения – не стоит пытаться преодолеть. По крайней мере, когда я, годы спустя, в книжке Акунина встретил рассуждения про ЧСД – Чувство Собственного Достоинства, – именно Коба вспомнился мне с ходу.
И еще эти дни, недели, месяцы: тугоплавкие кванты райского субтропического времени. Это тотальное ощущение безмятежности. Это обволакивающее, сразу у берега уже глубокое море, после которого я хренову тучу лет приучал себя к зябкому мелкому Рижскому заливу (не приучил). Эта, отбивающая вообще всякий чувственный отклик на плоский балтийский (среднерусский тож) пейзаж, гамма панорам, рельефов, цветов и запахов (она вернулась ко мне, лишь когда я уже по собственному почину добрался до Италии с Испанией).
Все кончилось в девяносто втором.
Оказывается, случается дистанция в несколько лет не только между фактом и его аналитической оценкой, но и между событием и чрезвычайно гулким этого события эмоциональным эхом. Тогда – тогда я, в общем, ничего не испытывал. Даже когда курортная жизнь вдруг пересохла в четыре-пять дней – пляжи вымерли, кафе и магазины закрылись, исчезли с уличного угла армянин Ашот и его лоток с раскаленным песком, в котором доходил до склеивающей челюсти сладостной густоты кофе по-турецки. Даже когда на свободную галечную полосу стали громогласными прайдами выбредать чернявые ребята в хаки – хаки они скидывали, АКМы с рожками, “афганским” манером по два примотанными изолентой (меньше тратить времени на перезарядку), кидали поверх и шли купаться в обезлюдевшем море. Даже когда по улице мимо меня проехал грузовик с ранеными – кто-то, монотонно воющий, не различался в плотной угрюмой гурьбе, зато молчащего и лежащего видно было прекрасно: он лежал на дощатом дне ЗИЛовского кузова, и ноги у него заканчивались чуть выше колен сизо-багровыми султанами неумело намотанных бинтов…