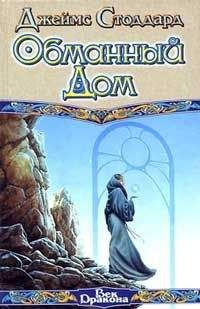У меня, между прочим, есть обязательства перед речкой. Все.
Пишем дальше.
— Что?! — возмущается вдруг речка. (Я точно слышу, как она сердится на меня.) — Какое еще «пишем дальше»? Ну ничего себе! Да ты что, забыла?
Как однажды вы с Костиком стояли на мосту, на весенних каникулах дело было, стояли с Костиком, грелись на мартовском солнышке. Мимо прошел дядька с сигаретой, и дымок четко пахнул близкой весной, талым снегом и южным ветром. И ты еще сказала:
— А правда же, весной сигарета курится совсем другим запахом, чем зимой или осенью?
— Сигарета-курица? — вытаращил глаза Костик. — Ты чего?
И смеялся.
Да, точно, помню. Ты права, речка. Всегда он надо мной смеялся.
Однажды мы с Костиком даже подрались. Поспорили. Я утверждала, что слово «ебутся» пишется через «Ы». Более продвинутый Костик настаивал на «Е», всячески надо мной смеялся и попрекал неграмотностью. Мне было лет девять, а Числу двенадцать.
Н-да…
Нет…
Не годится бросать в беде человека, с которым связаны столь трепетные детские воспоминания.
Так ведь помрет он там, совестно мне будет, что палец о палец не ударила. Вот всегда так, живешь себе, даже в одной стране, в одном городе, на соседней ветке московского метрополитена, и никогда не встречаешься с давним другом, даже не вспоминаешь, но когда он умирает — выходит из окошка («окно — аварийный выход»), разбивается на машине по первому ночному снежку или долго и неправильно лечится от какой-то пустяковины («а оказалось, это не то совсем, проморгали основное-то, если бы раньше спохватились»)…
И эти поминки с водкой и черным хлебом, курить только на балконе, ветер летит в комнату, покаянные слезы, объятия и обещания держаться вместе, дружить, чтобы потом опять распрощаться и не встречаться никогда, никогда, никогда…
Знаем. Плавали.
Помрет — загрущу…
Этак он мне всю оставшуюся жизнь отравит, паршивец, дачник хренов, друг детства…
И вот отсюда начинается история, которую можно записать пьесой, чтобы — «слева кто говорит, а справа что говорит», а можно столбиком, а можно в строчку подряд или «елочкой», и назвать ее «Про нас», или «Земля октября», или коротко и ясно — «Пахра-Манхэттен-oneway», чего уж проще, а можно квалифицировать эту историю как
…
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЧИСТКЕ СОВЕСТИ
ПЕРВОЕ
Служба кончилась, и молебен отслужили, и поговорил со всеми.
— Батюшка, батюшка, вас во дворе женщина ожидает, не наша, не знаю я ее, — говорит старушка с «ящика».
Вздохнув и спотыкаясь о кошек, батюшка выходит во дворик.
Во дворе хорошо, чисто выметено, цветники, кирпичные крестильня и трапезная, все добротное, на совесть. Кошки в ошейниках и смирные алкаши на лавочке.
Развела ты, матушка Анна… Ну, кошки — это еще ладно, но эти… «Воскресные обеды для малоимущих». Ты тут хоть одного малоимущего видела? Сползается на супчик одна алкашня, здоровые, красномордые, пахать на них надо.
На скамеечке сидят пообедавшие, довольные бомжи-алкаши в ярких курточках, из тех, что приносят прихожане от выросших детей-подростков. С краю, сливаясь с бомжами и кошками, сидит тетя в темном, смотрит на батюшку.
Эта пришла, потому что что-то случилось.
Никогда не ходит, а тут пришла. Батюшка таких за версту узнает.
— Ну, что тебе, чадо?
— Здравствуйте, батюшка. Извините, что беспокою. С Числом беда.
(Где я его видела? Где-где, по телику. Какие-то ток-шоу. Крутой столичный поп. Прогрессивная общественность.)
— Ну, Костик Чеславин, Число, ваш товарищ, друг детства.
— Что с ним?
— Упал в Центральном парке.
— Имени Горького?
(Что, все батюшки такие «тормоза»? Какого Горького? Еще бы сказал — Дзержинского!)
— В Централ-Парке, в Нью-Йорке. Служба спасения подобрала. Ну, вы знаете, должно быть, у него вредные привычки… Помрачение рассудка, сейчас он в больнице для бедных.
(«Сколько лет мы не виделись с Числом? И не слышались…
Где я ее видел, это подругу Числа? У Числа и видел, наверное».)
— У него в бумажнике нашли мою визитку, и мне позвонил какой-то малый, его сосед по палате. То есть Зине, бывшей жене, тоже звонили из больницы, но он просил, чтобы мне тоже, и чтобы я вам…
(«Значит, он не просто помнит меня, а еще и рассчитывает, надеется, что мы его не оставим. Так. Ну, понятно, сорокоуст, усиленную молитву, друг все-таки. Знал я, что не доведут его до добра эти Америки».)
— Батюшка, надо сообщить его матери.
— А она жива?
— Прекрасно себя чувствует. Они поссорились… Ну, вы знаете, должно быть. Может, она вас послушает? Надо забрать его из Америки. Чтобы ему было где жить. Чтобы он вернулся. Пожалуйста, съездите к ней. А? Вы ведь все-таки… Вдруг она вас послушает?
«Так. Но когда, когда?.. Завтра… Послезавтра…»
— Хорошо. Скорее всего, в понедельник.
— Спасибо. Спасибо, батюшка! Вы тогда мне позвоните, скажите, что она сказала и как…
Даю визитку.
— Спасибо, батюшка. До свидания, батюшка.
— Всего доброго.
«Визитка. А, вот это кто. Ну да. Точно, раньше видел. Нет, не у Числа, а недавно, по телику.
В ток-шоу. Творческая интеллигенция. Ужас.
«Вы, батюшка, да мы, батюшка, сюси-пуси».
Когда же ехать к матери Числа?»
Кошки путаются под ногами, батюшка прохаживается по двору, то и дело отвечая на звонки по мобильному.
Занятой народ — столичные батюшки. Расписание, как у кинозвезды. И мобильник звонит не переставая.
Итак, мероприятия по очистке совести запущены и ждут продолжения.
Сумасшедшая рыжая старуха, она же — несносный ребенок, она же девочка без щенка, она же стриженная как новобранец первокурсница в матросской курточке, мама мальчика Темы, автор пьесы «Все мальчишки дураки»…
Копошится в бумажных клочках и как-то забывает, что она в деревне уже навсегда. Думает, что это что-то вроде детского сада. Что скоро заберут. Повезут на Каретный…
Каретный, Каретный ряд, широкая и короткая улица между Петровкой и Садовым. Наш угловой дом, самый большой на улице, гигантской буквой «Г».
Рядом с нашим домом, слева, ближе к «Эрмитажу», стоит прямоугольная кирпичная будочка. Там живет пленный немец, который строил наш дом. Серьезно, правда! Так Алик Лебедев говорит, а он знает, он умный, он уже в шестом классе. Алик Лебедев дружит с моим папой, то и дело заходит поговорить о том о сем и со мной тоже дружит. Это он рассказал мне про пленного немца, живущего в будочке. Мы — народ-победитель, должны относиться к нему великодушно, это значит не обижать и даже подкармливать, говорит Алик. И я честно оставляю возле будочки куски хлеба и яблочные огрызки, ожидая, что в конце концов на свет выйдет упитанный фриц и мы скажем ему:
— Одумался? Возвращайся домой и больше не нападай на нашу страну!
Дом артиста!
И правда, пять подъездов занимают артисты Большого театра, два подъезда — эстрадники. Если проходишь мимо нашего дома летом, когда открыты окна, то слышишь, как кто-то распевается густым оперным голосом или играет на ксилофоне. А недавно среди ночи какой-то специалист упражнялся на дудуке.
Да уж, далеко не у каждого человека с самого детства соседи — фокусники, дрессировщики с мелкими нервнобольными собачками, чечеточники, акробаты, чтецы, клоуны и знаменитая династия вендрологов Донских. Их предки потешали еще царя Алексея Михайловича, разговаривая животами, «чревовещая». Как-то раз, когда меня опять девать было некуда, меня оставили у Донских на «передержку» на несколько часов, и Мария Григорьевна с дочерью Женей забавляли меня своей куклой, старикашкой с хитрой физиономией, который говорил человеческим голосом. Когда после этого они стали угощать меня чаем с пирожными, не только аппетит, но и голос, речь, пропали у меня начисто, я буквально онемела от изумления перед говорящим гномом.
Ребенок, хронически некуда девать, покормите ребенка, не надо при ребенке, отправьте же ребенка спать… Ребенок очень упрям… Залезает под стол… Несносный.
Ну, прочти стихотворение. Или спой песенку. Давай спой. Посмотри, кто к нам пришел.
А кто? Курносый старый дядька, круглые карие глаза, сидит в кресле напротив папы, сидят и о чем-то разговаривают, смеются… Дядька старый, как папа.
Ну, давай же. Мы ждем.
Вместо песенки и стишка ребенок залезает под стол.