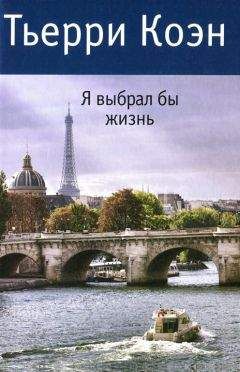Они допили шампанское, и Жереми, захмелев, никак не мог собраться с мыслями. Когда Виктория протянула ему маленький сверток с подарком, он попытался улыбнуться ей. Непослушные губы растянулись в бессмысленный оскал.
— Эй! — рассмеялась Виктория. — Да ты как будто пьян. Я никогда не видела тебя таким, ты и выпил-то всего ничего!
— Я, кажется, действительно немного перебрал, да и устал.
Он разорвал бумагу и обнаружил под ней что-то вроде ларчика из серебра тонкой чеканки. Не понимая, что это такое, он повертел его в руках.
— Эта безделушка привлекла твое внимание в витрине одной лавки на улице Розье.[2] Псалтирь в серебряном футляре. Ты так запал на эту вещицу, что я удивилась. Стоял перед ней как… загипнотизированный. Вообще-то ты не интересуешься религией. Но я подумала, что для тебя в этом есть какой-то смысл.
— Спасибо, — с трудом выговорил Жереми, удивленный странным подарком.
Он открыл футляр и извлек маленький томик, напечатанный на пергаментной бумаге. Пришлось сделать усилие, чтобы прочесть надпись на обложке: «Псалтирь. Иврит / Французский».
— Тебе не нравится?
— Нет… потрясающе… я… немного пьян. Я, пожалуй, отдохну.
— Ладно, я пока уберу все это.
Она встала, поставила бутылку и бокалы на поднос и направилась в кухню.
Оставшись один, он вдруг почувствовал, как по вискам течет пот. Ледяное дыхание сковало руки и ноги, живот, спину. Он открыл книгу и полистал страницы, с трудом дыша. Отодвинул ее, потом поднес к самым глазам.
«Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: „возвратитесь, сыны человеческие!“ Ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи. Ты как наводнением уносишь их; они — как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает…»[3]
Внутри жгло как огнем. Неужели это от чтения ему стало так плохо? Дышать было все труднее. Он хотел встать, но тело ему не повиновалось.
«Те же ощущения, что тогда, в больнице». Веки его отяжелели. Он почувствовал такую усталость, что вынужден был лечь.
Уснуть он боялся. Что готовит ему пробуждение? И почему так нехорошо? Он снова взялся за книгу.
«Дней лет наших — семьдесят лет, а при большей крепости — восемьдесят лет; и самая лучшая пора их — труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего, и ярость Твою по мере страха Твоего? Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобресть сердце мудрое. Обратись, Господи! Доколе? Умилосердись над рабами Твоими».[4]
Псалтирь выпала у него из рук, и он не смог ее поднять. Руки и ноги онемели. Он слышал, как Виктория возится в кухне. Хотел ее позвать, но не смог издать ни звука. Он вдруг расслышал какой-то шепот и увидел свет у окна, но повернуть голову не удалось. Мокрый от пота, он был теперь полностью парализован. Только глаза еще могли двигаться. Ловя ртом воздух, Жереми боролся, чтобы продлить бодрствование еще на несколько мгновений. И тут он увидел у окна старика. Старик читал ту же молитву, кадиш об усопших. Откуда он взялся? Кто он? Надо было предупредить Викторию, сказать ей, что в квартиру проник сумасшедший!
ПРЕДУПРЕДИТЬ ЕЕ! ПРЕДУПРЕДИТЬ! Он попытался позвать, но ему не хватало воздуха. Он задохнулся — и провалился во мрак.
— Папа, папа.
Голос ребенка был тихий, но настойчивый.
— Папа, просыпайся!
Жереми медленно поднял голову. Рядом с ним на кровати примостился, поджав ноги, маленький мальчик; его огромные черные глаза, казалось, занимали все личико с правильными чертами. Длинные темные волосы падали на шею; он сидел, подперев ладонями подбородок, и, надув губки, смотрел на него.
— Ну же, папа, просыпайся, уже день!
Жереми снова откинул голову на подушку.
Он попытался собраться с мыслями, чтобы понять суть этой сцены. Но единственное, что всплыло в памяти, — его двадцать третий день рождения, чудесный вечер с Викторией, опьянение, Псалтирь и старик. Испуг с примесью усталости охватил его.
«Неужели опять начинается? Я больше не могу».
— Я есть хочу. Хочу молочка, — зудел тонкий голосок.
Жереми не шевельнулся.
«У меня опять приступ. Этот ребенок назвал меня папой. Это, видимо, Тома. Значит, я ушел на несколько лет вперед от моих последних воспоминаний. На три или четыре года». Он сокрушенно вздохнул. Размышлять он был не в состоянии. Воля его была сломлена.
Ребенку надоело ждать, он слез с кровати и вышел из комнаты.
Жереми остался лежать. Он прикрыл глаза рукой, защищаясь не столько от света, сколько от действительности.
Услышав звон разбитого стекла, он сел в постели.
Видно, сел он слишком резко. Голова закружилась. Он встал, но ноги, казалось, не держали его. Полузакрыв глаза, опираясь о мебель, он пошел туда, откуда раздался звук.
Он нашел ребенка в кухне; стоя на табуретке, тот рылся в подвесном шкафчике. Он дулся и даже не соизволил обернуться.
— Я хочу моего молочка, — сказал он твердо.
Жереми не знал, что делать. Он был ошарашен, словно не в себе, не мог ни думать, ни действовать. День, несомненно, готовил ему еще много сюрпризов. Надо было, однако, как-то жить в настоящем и для начала войти в роль отца.
Тома балансировал теперь на краю кухонной тумбы.
— Постой, я сейчас.
Ребенок уронил на пол банку варенья. Плиточный пол был усыпан осколками стекла, острыми и блестящими.
— Иди сюда, ты порежешься.
Он взял ребенка на руки и усадил на кухонный стол.
Все это он проделывал чисто механически. Ему хотелось оставить этого ребенка, вернуться в постель, отказаться от этой игры.
Жереми поискал тапочки. Нашел только пару мокасин в прихожей и сунул в них ноги. Он подтер пол бумажным полотенцем, ногой отодвинув осколки в угол. Потом полез в шкафчик, в котором рылся ребенок, и нашел чашку.
— Нет, я хочу из бутылочки, — сказал мальчик.
— Из бутылочки?
Ребенок был великоват для соски, но Жереми не хотелось вникать в это. Он взял бутылочку, на которую мальчик показывал пальцем, и достал из холодильника молоко.
Настоящее постепенно затягивало его, заставляя, как в тумане, совершать необходимые действия.
— Ты забыл какао.
— Ах да, какао! А где оно?
Ребенок, поджав губки, указал на кухонный шкафчик. Жереми нашел коробку какао-порошка. Он открыл микроволновую печь, поставил туда бутылочку и уставился на кнопки управления.
— Большая кнопка, — подсказал мальчик.
Он повиновался.
— Сюда, — продолжал его сын, указав пальчиком на цифру два.
Пока бутылочка разогревалась, Жереми осмотрел кухню. Это была не та квартира, что в его прошлое пробуждение.
Ему хотелось увидеть Викторию, поговорить с ней. Где же она?
Он посмотрел на ребенка. Мальчик был красивый. Его большие глаза не давали ему покоя. Ему казалось, что он их уже где-то видел. Но, едва задумавшись об этом, он узнал свои собственные. Ребенок был похож на него. «Потому что это мой сын», — подумал он, и от этой очевидности ему стало немного легче.
Ребенок смотрел на него с любопытством.
— Ну как, Тома?
Мальчик поднял брови:
— Я не Тома, я Симон.
Жереми сам удивился спокойствию, с которым принял эту информацию.
«Двое детей? Почему бы нет? Теперь меня уже ничем не удивить. Но сколько же лет я забыл на этот раз?»
— Симон? Ну да… Прости, я еще сплю… А где Тома?
— Играет в своей комнате.
Микроволновка выключилась. Жереми достал бутылочку, протянул ее Симону и направился в гостиную. Открыл одну дверь — за ней был кабинет. На другой двери висела яркая диснеевская табличка с надписью «Тома и Симон». Жереми вошел. Мальчик постарше сидел перед экраном монитора с джойстиком в руке. Он не заметил Жереми, сосредоточенный на видеоигре.
Жереми подошел к нему и почувствовал, как забилось сердце.
— Тома?
Ребенок не ответил.
«Может быть, это не он?»
— Тома! — повторил он тверже.
Мальчик не повернул головы.
«Ему, наверно, года четыре или пять. Может быть, шесть. А Симон, видимо, на год моложе».
— Ты не мог бы прерваться на пять минут, пожалуйста?
Мальчик нажал на кнопку паузы и, не оборачиваясь, скрестил на груди руки.
— Тома!
— Что? — вяло отозвался ребенок.
«Значит, это он. Подумать только, младенец, которого я еще вчера держал на руках! Это какое-то безумие!»
— Ты… ты позавтракал? — спросил он наобум.
Ребенок пожал плечами.
Он явно дулся. Может быть, только потому, что ему помешали играть.
Жереми подошел ближе и присел перед ним на корточки. Мальчик опустил голову.
— Посмотри-ка на меня.
Тома поднял на отца строгий взгляд.
«Он больше похож на маму, — отметил Жереми. — Просто ее портрет. Эти тонкие черты, эти зеленые глаза, этот рот».