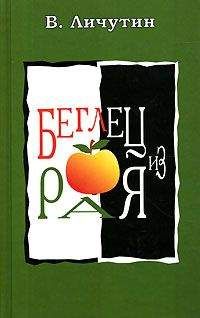4
Наверное, с неделю я не спал, всюду мерещилась Марфуша. Потом память по ней стала меркнуть, усыхать, съеживаться, и вроде бы стало легче сносить одиночество, но временами покинутая женщина внезапно всплывала из нетей, как подымается со дна омута серебристая рыбина, мерцающая змеиными глазами, и осадок на душе, клубясь и затмевая все радостное, заново ворошил в груди потухшие отчаяние и обиду. И ведь не прельстительница вспоминалась ярко, до мельчайших подробностей, не та лукавая совратительница, что сбила меня с панталыку и пропала в московских заводях, и не бой-баба, что ради плотских страстей своих способна послать на погибель самого здравого мужичонку, но заботная, кроткая утешительница и домоправительница, что однажды в один день устроила мне рай на земле, ласковая женщина, с лету схватывающая просьбу, этакий прощальный солнечный лучик, поутру впорхнувший в форточку моей мрачной норы, отыскавший в пыльном углу меня, снулого и заиленного, и пробудивший в сердце почти начисто утраченный интерес к жизни...
И тогда выть хотелось, с воплем бежать на Москву, рыться в ее мрачных сырых углах, чтобы с покаянием, униженно вернуть Марфиньку назад и распластаться перед нею покорнее половой тряпки; пусть ноги вытирает об меня, пусть, а мне то и сладко. Прощу, любимая, все прощу, только бы возле была постоянно, наполняла смыслом живое пространство, в котором так легко и беспечно жилось бы нам в любовном союзе. А там, глядишь, и детки бы посыпались, и все вихревое, бездельное из головы и похотной утробы само собою отсеялось бы от вседневных забот, как полова от зернеца.
...Но в какую-то минуту сердечный порыв, похожий на больной жар, угасал, когда представлял я Марфиньку в чужой постели, измятую, с парным телом, с неряшливо всклокоченной головою и безумными, нараскосяк, глазами. Да разве можно такую простить? И неужель могу попуститься на свальный грех? И снова я подавлял сердечную жалость к Марфиньке, рвал постромки, выламывался из оглобель, только бы не впрячься в гнетущий воз бесконечных раздоров, которые в скором времени, непременно, сгноили бы нас. Эта мысль, что устоял, не поддался отчаянию и сохранил свободу, конечно, успокаивала, облегчала скорбь и обиды, и я молился Господу, благодарил, что он остерег меня от нового греха, отвратил от лютых дней.
А Марфинька, наверное, и на расстоянии чуяла мою тоску и потому каждый день названивала по всяким пустякам, чтобы подогреть меня, играла голосом, просила прощения, умоляла, заверяла, что будет верной женою, что она лишь временно впала в бред, угодила под чей-то злой прикос, под колдовские чары и наговоры, но вот наконец-то очнулась от наваждения, выздоровела и просит милости. О!.. Эта ученая гуманитарная барышня, прошедшая московскую школу выживания, умела ловко играть на нервах, как на гитаре, жгуче пощипывать их, потеребливать, напрягать до того предела, когда струны готовы лопнуть... Она так стремилась вписаться в новое общество, что незаметно потеряла себя, прежнюю, и позабыла. Она не поняла, что к власти пришли алчные, небывалые прежде герметические люди, которые не только присвоили наше настоящее и будущее, но и отобрали наши воспоминания, посчитав их за пустой каприз переживших свое время отработанных людей... А с отбросами не церемонятся, их пускают в отвал...
С каждым таким разговором отодвигать Марфиньку от себя становилось все легче, и прошлое незаметно превращалось в хворь, которую удалось перемочь, а нынешний покой уже казался бесценным благом.... Уф! Пронесло! – облегченно вздыхал я, смеясь над недавними безумствами. Хорошо еще, что так легко отделался и без особых потрат; ну побесился, помучился, не без этого, но зато теперь есть что вспомнить. Словно сухую ветвь отсек... Это в молодости такой развод показался бы безумством, когда жизнь рушилась на глазах и виделась бессмысленной, а здесь будто бы никаких душевных судорог, никакой катастрофы, словно в монашество отошел, отринув от себя внешний мир за монастырские стены... Но смех-то мой был неискренний, ироничный, сквозь близкие слезы, ибо внутри-то осклизло все, там сырость скопилась, как в старом заплесневелом погребе. И тут с грустью понял я, что омоховел, зарос сквернами, разучился страдать, убежавши от людей, окостенел нутром, будто креневое сухостойное дерево над обрывом, чуя неизбежный земной край, и теперь не дождаться мне того истинного сердечного ликования, которое настигает человека лишь в ранних летах, когда постоянно ждешь доброй вести и небесного подарка... Может, Марфинька и была тем последним Божьим гостинчиком, которым я из суетной гордости своей и непоклончивости пренебрег.
* * *
– Мы все хотим рая на земле, а нам предлагают его на небесах, – сказала Татьяна Катузова-Кутюрье, неожиданно появившись в моей квартире в конце апреля. И, внимательно посмотрев на меня, тоняво протягивая голосом, сникая, обмирая на высоких верхах, добавила участливо: – Мы все уже стоим во вратах ада, чувствуем его дыхание, но уверяем себя, что ада нет...
– Потому что уже прижились к аду и хотим урвать кусочек счастья на земле, даже в таких скотских условиях, не уповая на вечное небесное блаженство...
Я давно, со смерти Марьюшки, не видел соседку и потому несколько растерялся, задержал Татьяну в прихожей и невольно перекрыл ей дорогу. Таня, вытягивая любопытно шею, как гусыня, прилежно оглядывала квартиру, надеясь найти в ней свой интерес, и видно было, как с каждой минутою возбуждение угасало на ее лице. Я сразу догадался, кого гостья желала бы видеть...
– Проходите, Таня. Надеюсь, у меня-то еще не ад?..
– Ну что вы, Павел Петрович, – со всхлипом засмеялась гостья, и упругие ресницы затрепетали, будто попала в глаза слезинка. – Вы скажете так скажете... У вас елеем пахнет, ладаном.
Я смутился, понял слова гостьи как насмешку, невольно перевел ее слова наоборот: «У вас блудом, скверною пахнет...» Уступил дорогу, провел гостью на кухню.
– Вы один? – с недоверием спросила Татьяна.
– А с кем же мне быть?
Гостья неуверенно пожала плечами, серые разбежистые глаза оставались печальны. Я невольно заметил, что Татьяна сильно изменилась за зиму, она как бы посуровела, обстрогалась лицом. Крупнее стали скулы, вылупились матовые, приопаленные вешним солнцем щеки, на лбу просеклись морщины, и в обочьях легли коричневые тени. Какая-то гнетея, нужда иль долгая забота оставили на всем виде несмываемый отпечаток грусти, который уже нельзя зашпаклевать никакими снадобьями. Прежде густые, с вихрами на затылке волосы были обрезаны под «нулевку», и головка сразу стала крохотной, подростковой, словно бы Таню Кутюрье только что выпустили из заразной палаты...
– Что с вами, Таня? Где ваши чудесные волосы? Вы болели?.. – посочувствовал я, указывая на голову.
– А кто теперь не болеет, Павел Петрович? – Таня комкала в ладони какую-то бумагу, словно держала в горсти вещую птицу. – Вы же сами говорите, что мы живем в аду. И значит – больные. В аду здоровых нет, как вы понимаете. А больные – все одинокие. – Женщина пошерстила на выпуклой макушке щетину, отливающую черненым серебром, кисло улыбнулась. – Нет, я-то здоровая, меня орясиной не завалить... Так нынче модно... Мы, бабы, дуры; бабы – стайные существа, в одиночку летать не могут... Куда одна, туда и другая... Все эти притирки, примочки, мази, лосьоны нам они нужны? Да пропади они пропадом, век бы не знала, деньгам один перевод. Все для вас, мужиков, стараемся, чтобы завлечь, затянуть в свою постель на собачьи пляски... И белье итальянское, и французские духи, и всякие шиншиллы – все для вас, а вы нос воротите. Нам бы закрыться наглухо, чтобы от шеи до пят – футляр, броня... Вот бы заметались, забегали песики. А мы все нараспах, как в морге... Ковыряйся, лапай: вот грудь моя, вот сердце... Поганое время – время бесстыдных сук и грязных кобелей... Секс – помойка... Как ни натирайся, а запах помойки... – Она дурашливо потянула носом, призакрыла глаза. – У вас совсем другой воздух: стариной пылью пахнет, мышами, умными книгами, свечой, неубранной посудой... Значит, вы залучили не стайную птицу, редкую по нашим временам... Дуры – бабы... Мне куда приятнее потом пахнуть, я люблю, когда здоровый пот от мужика, а не кошачья французская вонь. А я вот, пустоголовая, волос не пожалела, последнюю свою красоту с плеч долой... Потому что тоже – стайная курица, в Париж хочу, русской портнихе Париж насулили... Много Парижу... Там обещаны слава, деньги, Европа под ноги ковром, евреи, жулики, прохиндеи, лесбиянки, отрава... Оставлю Катузова в России, пусть дополняет победный список... Ой, Павел Петрович, простите, ради Бога... Какую чушь порю... У вас, говорят, красивая жена... Покажите ее мне, не прячьте. Вы ее храните в сундуке? Катузов так хвалил, так хвалил, аж слюна на губах пузырями, как простокваша. Я ему говорю: Катузов, не заглядывайся, не подавись чужой костью... – Татьяна, сбиваясь, перескакивая с мысли на мысль, задевала многие слои нынешней жизни, перетряхивала внешнее, не касаясь их глубины, словно боялась замолчать и окончательно упасть духом. Слушая Кутюрье, я вдруг невольно вспомнил Марфиньку. Эти женщины одной шмелиной породы, им завещано судьбою порхать с цветка на цветок, они не умеют говорить в простоте, и каждое слово у них вписывается в свою мозаичную картину, которую никогда не докончат. Только Кутюрье живет в стыде, а Марфинька этот стыд где-то в пути порастрясла.