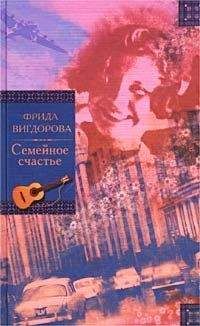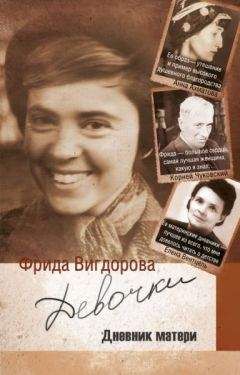И вот он должен сказать им, что не кончит академии. Что его отчислили за роман с Гертрудой Гессе. Мать заплачет. Леша даже остановился, когда подумал об этом. А отец будет говорить, стараясь, чтоб не дрожали губы: "Сынок, надо написать куда-нибудь. Обжаловать. Это несправедливо".
Леша поедет на Курилы не моргнув глазом. Но родителей жалко так, что кажется, будто кто-то схватил его за глотку и стиснул, не отпускает. Правду говорит Саша, жалость — самое мучительное чувство. Жалеешь, только когда ничем не можешь помочь. Вот и сейчас: чем им поможешь?
Пойду к Саше, расскажу ей. Нет, не пойду. Ей самой плохо сейчас. Что-то у нее не ладится. Вчера он спросил: "Что с тобой?" А она: "Очень устала. Смертельно. В больнице только и слышишь эту несусветную чушь: "Сестрица, это лекарство не отравленное? Сестрица, а правда, что в некоторых больницах прививают больным рак? А в нашей больнице не прививают?"
Он ей все скажет завтра. Он хочет пойти к Саше потому, что ему плохо. Он хочет, чтоб она ему помогла. А ей самой худо. Он хочет пойти к Поливановым потому, что не может, не может, не может вернуться домой. Не может войти в комнату и сказать: "Меня отчислили".
Не может увидеть, как задрожат у отца губы.
А мама? Нет. Сегодня он ничего им не скажет. У него не хватит мужества нанести им такой удар. Завтра. Утро вечера мудренее. А что он будет делать сейчас? Он уже давно не шел по Ленинградскому шоссе к Белорусскому вокзалу. Он давно уже повернул назад. Ну и что же? Он пойдет и простится. Попрощается. Он был груб тогда, в их последнюю встречу. Сейчас он зайдет, попросит извинить за тот разговор и уйдет. И ничего нет странного в этом желании. Домой он вернуться не может, вот и все, что он знает.
Она сама открыла ему дверь. Она не удивилась, увидев его. Отвела прядь волос со лба и сказала:
— Что же вы стоите, Алеша? Заходите скорее, снег!
Он зашел. Совсем как тогда, топилась печка, и на маленьком, почти игрушечном письменном столе лежали детские тетради.
— Вы замерзли, наверно? говорила Таня. — Грейтесь, Алеша, а я вскипячу чай и сварю пельмени. Вы любите пельмени?
Это было милосердно, что она не сказала: "Зачем вы пришли?" Или еще что-нибудь в этом роде. Она сказала: "Грейтесь". И еще сказала: "Вы любите пельмени?" И он ответил: "Люблю".
Он подошел к письменному столу и отыскал Катину тетрадку. "Тетрадь для сочинения ученицы 3 "В" класса Ката Поливановой". Сочинение называлось "Весна". И начиналось оно такими словами: "Весна — понятие растяжимое". Он невольно улыбнулся. Ему вдруг чуть полегчало Он сел у печки, приотворил дверцу и стал глядеть в огонь Какое веселье царило там, в глубине. Какие города вырастали и рушились. Как металось, взлетало и падало пламя как наливались прозрачным золотом угли. Вот так бы и сидеть здесь целый век. И ни о чем не думать.
Из кухни вернулась Таня. Он услышал скрип двери и легкие шаги. Он повернул голову. Она стояла и смотрела на него печально и вопросительно. Он снова отвернулся.
— Садитесь, Алеша. Чай на столе.
Он молчал, она не повторила своей просьбы.
— Меня отчислили из академии, — сказал Леша. Она молчала.
— Я уезжаю. Наверно, на Курилы, — сказал Леша.
— А я? — услышал он.
— Что?
— А я? — повторила Таня.
Саша жила так, как велел день. Утром вставала и шла на работу. Возвращалась домой, была с детьми. Готовилась к экзаменам в медицинский институт. Потом, не дождавшись Мити, ложилась. Он приходил поздно. "Я сегодня дежурю", — бросал он на ходу. Или звонил по телефону: "Я сегодня "свежая голова", я не приду". Саша знала: "свежая голова" — это тот, кто смотрит только что сверстанный номер, последний проверяет — нет ли ошибки? Прежде он добавлял: "Спокойной ночи, Сашенька" сейчас он говорил просто: "Я не приду". А иногда ничего не объяснял: "я не приду" — и только.
На работе Дмитрий Иванович сказал ей:
— Я недоволен вами, Саша. Вы становитесь добросовестным работником.
Голос его звучал сухо, он никогда не говорил с ней так. Но она знала, что он прав. Все, что она делала, она делала механически: в назначенный час давала лекарства; в назначенный час вливала глюкозу или капала эфедрин мальчугану, схватившему насморк. Но знал бы доктор, чего ей это стоило! Она работала, сжав зубы, едва превозмогая боль, такую жгучую, что она напоминала ей ту, другую, уже испытанную однажды. Что-то словно умерло в ней самой. Не было даже сил для выражения горя, совсем как тогда. И слез не было. И хотелось только одного: не быть. Как тогда. Дети? Но ведь и тогда была Аня. И совсем как тогда, она не могла слушать музыку.
И казалось, стоит только задуматься и понять, что случилось с ней, с детьми, с Митей, как из глаз хлынут слезы, и тогда, может быть, станет легче. Но додумать этого она не могла. Ну, а как живут другие? Брошенные? Оставленные в голой, сожженной пустыне, где нет любви и, может, не было. Живут. И нельзя сказать:
— Нет, я так жить не могу.
Потому, что многие не могут, а живут. Сначала надеются, потом перестают надеяться. И живут. И как ей быть сегодня? Ее ждет долгий, страшный, длинный вечер. Она не хочет домой. Там еще труднее, чем на работе, чем на улице. Леши нет. Леша далеко. Ему — одному на свете — могла бы она все рассказать. А может, и ему не рассказала бы. Он уезжал такой счастливый! Он уезжал вместе с Таней, и ему было все нипочем. На вокзал провожать их пришли все — и отец с мамой, и Поливановы. Отец держал себя молодцом. По щекам Нины Викторовны текли слезы, но она улыбалась: "Главное — пишите. И берегите себя — там такой климат…"
А Катя надела на руку своей учительнице часы — те самые, что Леша когда-то подарил Саше. Все глядели, как Катя старательно застегивала ремешок на Таниной руке, а Митя… Митя отвернулся.
Ну вот. Сегодня абонементный концерт. И не пропадать же абонементу. Прежде она пошла бы не думая. Но сейчас ей не хочется. На абонементных концертах по правую руку от нее сидит старичок в черной толстовке. У него крохотные руки и глаза с сумасшедшинкой за толстыми стеклами очков. Он иногда мешает Саше, потому что ерзает, кашляет, иногда бормочет:
— Ну, куда спешит, куда гонит? Ведь русским языком сказано: лярго!
Саша полюбила его. Он всегда рядом, у него тоже абонемент. Ей почему-то жалко его — такой неухоженный, рукава толстовки обтрепались, локти лоснятся. А по левую руку тоже владелец абонемента — человек с красивым, надменным лицом. Он, как и старичок, как и Саша, тоже всегда один.
Однажды Рихтер играл сонату Прокофьева. Казалось, рояль разлетится вдребезги — душа, раздавленная отчаянием, не знала удержу, и пианист не ударял — колотил по клавишам, и рояль не пел — кричал, вопил. Саша замерла. В поисках поддержки она оглянулась. Сосед слева сидел прямо, лицо его было холодно и надменно. Он слушал для себя, и ничьей поддержки ему не надо было. "Тебе никогда бы так не сыграть, — подумала Саша, — ты никогда о себе не забудешь, ты всегда помнишь о себе. И сейчас, и сейчас ты не дрогнешь бровью, у тебя и сейчас сжаты губы. Эх, ты!" Она отвернулась к старику. И он ответил ей благодарным и удивленным взглядом.
С того вечера он всегда здоровался с Сашей, и в антракте они вместе спускались со своего амфитеатра вниз и ходили по кругу фойе. Она радовалась этому, идя на концерт, она думала о встрече с ним. А сейчас она хотела быть одна. Она не хотела ни с кем здороваться, разговаривать. И все-таки она, пожалуй, пойдет. Она посмотрит хмуро, хмуро кивнет, и он не станет ее тревожить.
И вот она снимает пальто, и знакомая гардеробщица улыбается ей: "Идите, идите, повешу. Уже весеннее пальтишко? А не холодно? А впрочем, на дворе весна!"
И впрямь на дворе весна, но тут не слышно весны. В большом зале все, как было зимой, — орган на эстраде, силуэт черного рояля, портреты композиторов, привычные, как портреты добрых родственников и знакомых. Все как всегда. Нет, не совсем как всегда. По правую руку место свободно: старичок в потертой толстовке не пришел.
А по левую… Сосед слева тоже смотрит на пустое место и, словно отвечая на ее немой вопрос, говорит:
— Да, его и в прошлый раз не было… Как и вас. Это тревожно. Уж если он не пришел, значит — болезнь. Или смерть. Или… Я всегда думал, что его единственная радость — музыка.
Саша поглядела на него удивленно, он улыбнулся в ответ.
— Я умею отгадывать мысли. И знаю, о чем вы сейчас думаете: "А разве ты умеешь думать о ком-нибудь, кроме себя?" Ведь правда?
— Правда, — еще больше удивившись, сказала Саша.
— Он очень горевал однажды, когда увидел, что вас нет. И с горя заговорил со мной. Мы с ним взяли билеты на "Колокола", и он убеждал меня брать второй амфитеатр: я, говорит, доподлинно знаю, что Рахманинов и Чайковский всегда брали второй амфитеатр. Боковые места. Склад его характера необычный, старый. Мне кажется, он был…
— Не говорите о нем "был". Я не хочу. Он еще придет!