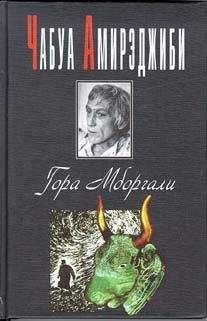Стояла весна. Леха - фамилию его запамятовал - то на воле работал, то в зоне мыкался. Был полдень. В лагере почти никого не было, кроме обслуживающего персонала из заключенных да бездельников вроде меня, которых к работе вообще не допускали. В зоне оставался и Павлик Лукашов, мой старый друг, занимавший соседнюю с Лехой нару. Подходит ко мне Павлик и говорит: "Кажется, Леха повредился в уме, с ним творится что-то неладное". Я встревожился. Павлик передал мне Лехины слова: "Был я в лесу, рубил дрова, увидел девчонку Маркова, заманил ее, ссильничал, убил и забросал ветками!" Дело было нешуточным, я предложил отыскать Митьку Балика. Балик заведовал баней и верховодил лагерными бандеровцами. Поразмыслив, Балик кликнул трех своих парней, велел им найти Леху, затащить его на чердак одного из бараков и всыпать, чтоб тот во всем откровенно признался. Не прошло и пятнадцати минут, как посланец, вернувшись, оповестил, что никаких розог не понадобилось, Леха и так все выложил. Парень спрашивал - что делать дальше?! Мы решили подержать Леху на чердаке, пока сами не узнаем, что и как - а вдруг у него с черепушкой неполадки или просто что-то привиделось? Всяко бывает. Несколькими годами раньше я сам был свидетелем, как заключенный, наголодавшись, вдруг объявил, что срезал с трупа Парфенова ягодицу и съел ее! Парень малость сбрендил - труп Парфенова лежал где и был, его никто не трогал.
Прошел час или чуть больше. За территорией зоны поднялся переполох, вопли и причитания. Сбежались офицеры и надзиратели, стали искать Леху. Откуда им знать, что Леха на чердаке - лестницу к лазу убрали. Нас пересчитали разов пять. Лехин пропуск лежал на вахте, а его самого не было. В конце концов мы подослали старичка спросить, что случилось, зачем Леху ищут?! Тот, кого спросили, не стал скрывать, рассказал все, как было. Тогда Балик дал знак, Леху повесили на кровельной скобе и смотались с чердака.
Когда нам надоело строиться для пересчета, намекнули, что ищут не там, где надо.
Нашли. Леха болтался в петле.
Обошлось! Всего раз пожаловала группа следователей. Порасспрашивали о том о сем, оформили, по-моему, самоубийство, и концы в воду!
Отлично! Теперь по плану о том, как нас выпустили из изолятора хоронить гиганта латыша. Дай Бог памяти, как его фамилия?.. Ах, да... Доктор Розенберг, латыш немецкого происхождения. Огромный мужик что в длину, что в ширину. Каково?! У бедняги поднялось давление, случилось кровоизлияние - скончался. Абрек Батошвили, Ахмед Ибрагимов, врач-азербайджанец, прозябавший в фельдшерах, Митя Дангулов и я сидели в изоляторе... Глубокой ночью, когда мы крепко спали, вдруг открылась дверь, вошел старший надзиратель, велел всем одеваться и выходить! Мы мешкали подобного рода выводы чреваты были провокацией. Выводили за территорию зоны, вроде бы на работу, потом открывали огонь и оформляли "при попытке к бегству". Удел "неисправимых"... Мы отказались выйти. Надзиратель стал уговаривать: "Ничего страшного, нужно похоронить Розенберга, не упрямьтесь!" Мы попросили время подумать. Он закрыл дверь, ушел. Через четверть часа вернулся. Мы решились выйти - будь что будет. Это был период, когда по спущенной сверху директиве мертвецов хоронили в деревянных гробах, то есть по-человечески, не то что прежде - бирка на ногу, с номером, фамилией и именем, и матрас вместо гроба. Вышли. Гришка Пискун подъехал к вахте на лошади, запряженной в повозку с гробом. Мы выехали за ворота, где нас поджидали шестеро солдат и проводник с собакой... Нужно сказать, что лагерные кладбища обычно размещались в паре километров от дороги, подальше от людских глаз. Еще одна деталь: администрация всегда знала, какое количество мертвых будет за зиму. Поскольку нормы выработки на разных видах работ были разными, они планировались заранее. Скажем, вырубка леса и земляные работы. Столько-то трупов - столько-то кубометров леса и столько-то вырытых могил... Зимой земля промерзала, поэтому могилы рыли летом в установленном количестве. Этим занималась похоронная бригада. Взялся Дангулов за поводья, и мы тронулись, сопровождаемые почетным эскортом - семь человек с собакой. Колыма - страна сопок, пирамидальных островерхих холмов и гор, с подъемами и спусками, не слишком удобными для ходьбы. До поворота на кладбище было недалеко, но оттуда до могилы нужно было километра три тащить гроб, то есть четыре сырые доски с десятипудовым покойником внутри, и это петляя между сопками и карабкаясь по кручам. Нас было четверо, все четверо сидели десять дней в изоляторе - триста граммов хлеба в день, пол-литра водянистой баланды через день. Правда, кипятка сколько душе угодно! Каково?! До поворота мы едва доплелись, потом, охая и стеная, подняли с повозки гроб на плечи и пошли. Около километра нужно было переть в гору, потом еще километр тащиться по плоскогорью до кладбища... Не успели мы пройти и двухсот метров, как Дангулов с Ибрагимовым взмолились о привале. Мы с Абреком тоже чувствовали себя не птахами. Передохнули, но поднимать груз было так трудно, что, если б не один из солдат, мы бы не смогли взвалить гроб на плечи. Пошли. Через сотню метров Ибрагимов упал, гроб грохнулся оземь, подмяв под себя Дангулова. Ибрагимов и Дангулов, оба приземистые, шагали впереди. Мы с Абреком, ростом повыше, шли замыкающими... Вытащили Дангулова из-под гроба, передохнули, тот же солдат помог нам взвалить на плечи гроб, и мы двинулись по кручам. На следующем привале начальник конвоя запретил доброхоту подходить к нам. Мы взмолились, начальник - ни в накую. Делать было нечего, с грехом пополам подняли гроб и, не сговариваясь, вероятно, движимые внутренней решимостью, на одном дыхании одолели все кручи и вышли на плоскогорье, но ох как тяжело нам дался этот переход. Мы едва переводили дух и, повалившись на снег, целых полчаса пытались прийти в себя. Мы бы еще полежали, но начальник конвоя едва ли не ударами приклада заставил нас подняться... Лично мне в лежачем положении стоящие мысли в голову не приходят, я больше соображаю, расхаживая взад-вперед. С Абреком было наоборот, едва приляжет, как выдаст такое, афинским мудрецам не приснится, всем семерым! Так было и на этот раз. Абрек воскликнул: "У меня идея!" - "Какая?" - "Снесем по частям! Крышку, гроб, а затем и покойника". Мы обрадовались, чуть не захлопали от восторга!.. Сняли крышку, положили ее на плечи и отмахали без остановки полтора километра, опустили у разверстой могилы, вернулись. Гроб оказался несравненно тяжелее. Крышка была сбита из двух широких досок потоньше, а гроб - из сырых двухдюймовых досок. Он, зараза, был такой тяжелый, что мы несколько раз останавливались передохнуть, и когда донесли его, попадали на снег. Начальник конвоя и впрямь приложился прикладом к каждому из нас: "Встать, расстреляю!" Мы потащились, то и дело останавливаясь, доплелись до мертвеца и уселись... Вдали, примерно на расстоянии пятисот метров, мерцал огонек - будка лагерной водокачки. Ибрагимов поглядывал, поглядывал на нее и разродился идеей... Мы все ее одобрили, даже конвоиры. Абрек сказал: "Вы отдыхайте, я принесу". С ним пошел солдат. Вернулся он с топором. Взялся Ахмед за труп бедняги Розенберга и разрубил его на шесть частей. Мороз стоял градусов тридцать-сорок, труп был как каменный, но Ибрагимов со знанием дела, как опытный мясник, разделал его... Дангулов был так плох, что нам пришлось втроем, в две ходки, отнести расчлененный труп Розенберга. Очистили могилу от снега, опустили в нее гроб, сложили Розенберга, накрыли крышкой и пошли... Землей обычно засыпала похоронная бригада... Нет, ты настоящий идиот, дурак... Не дурак, а дура! Бедняга Зубов шельмовал дурой лиц мужского пола. Может, для эффекта? Как знать... Тебя он дурой не называл. Да, да, ты прав, дурой меня назвал попугай, был случай. Правда, не только меня - нас было трое, но относилось и ко мне... На нашей улице жили немцы, целых пять семей. Они держали коров, и мы покупали у них молоко и простоквашу. Брали в долг, а в конце месяца расплачивались. Как-то раз пошли мама с тетей, жившей по соседству, к фрау Майер. Меня взяли с собой, поскольку оттуда мы должны были куда-то пойти, кажется к зубному врачу. Постучали в дверь и услышали: "Войдите, пожалуйста". Вошли. В комнате никого не было, кроме большого пестрого попугая в золотистой клетке. Взрослые присели, я приблизился к клетке рассмотреть птицу. Не знаю, то ли оттого, что я подошел, то ли по какой другой причине, но попугай раскряхтелся: "Дуры пришли, дуры пришли!" На его голос вошла фрау Майер, она возилась с коровой во дворе. Дамы занялись счетами, а попугай, недовольный, разворчался: "Дуры пришли, дуры пришли. - И в сердцах добавил: - Обманщицы, обманщицы!" Фрау Майер встала, подошла к клетке, пару раз щелкнула его палочкой, вроде дирижерской, что-то шепнула, и он объявил: "Приношу искренние извинения!" Судя по тону, попугай отнюдь не чувствовал себя виноватым, просто хотел угодить своей хозяйке. Какая чушь! Не хватит ли?.. Ты прав, хватит! Давай-ка вспомним еще одну историю, забавную, - как мы встретились в Москве с Юрой Кобуловым. У меня такое чувство, что эта буря никогда не кончится. И голод дает о себе знать... Ты, совсем как те цыгане, завел свое: "Мандро нани, мандро нани!" Когда детям хочется есть, а еды нет, цыганка-мать запевает песню: "Мандро нани, мандро нани!", что означает "хлеба нету, хлеба нету!". Поет, хлопает в ладоши, вовлекает в пляску детей, они поют, танцуют, и на душе становится легко... А мы вспомним о Юре Кобулове, и голод забудется. Это было еще при жизни моих родителей. Я и Юра, сын известного чекиста, вместе были зачислены на первый курс техникума. Он походил несколько месяцев и бросил, а может, родители заставили. В городе мы часто встречались на улице и даже здоровались. Его пребывание в техникуме мне запомнилось вот почему. Гоги Цулукидзе умел пускать дым колечками, да еще какими! На одном выдохе больше тридцати колец подряд. Юра побился с ним об заклад, сможет ли тот выпустить столько-то колец. Пари было денежным, а деньги у Юры водились - папенька подбрасывал. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало... Вскоре Юра Кобулов исчез из города. Поговаривали, что отец отправил его на курсы МГБ в Россию! Прошло много лет - десять или двенадцать. Я работал в Белоруссии, приехал по делам в Москву. Поднялся в кафе-мороженое на улице Горького, оно помещалось на втором этаже. Спросил "Сандэй", я очень любил его и, когда случалось быть в Москве, всегда лакомился. Только мне принесли мороженое, как в кафе вошел майор госбезопасности Юрий Бахчиевич Кобулов в сопровождении двух кокетливых девиц. Они уселись за столик напротив, мы оказались совсем близко, лицом к лицу. Юра поднял глаза, заметил меня. Во второй раз посмотрел, когда ел мороженое. По лицу его скользнула улыбка или нечто похожее на улыбку. Сомнений не было - он узнал меня. Мы были молоды, внешность за время, что мы не виделись, почти не изменилась. И еще... Если я тотчас узнал его, отчего ему было не узнать меня? Что мне было делать? Уйти? Нельзя. А вдруг он не узнал меня, зачем же мозолить ему глаза своей фигурой, походкой, повадками?.. Как часто бывало со мной, я положился на авось - будь что будет - и спросил еще мороженого. Мой последний побег был не только "шумным", он неблагоприятно отразился на карьере пяти или шести чекистов, к тому же на меня за эти четыре года, что я был в бегах, четыре раза объявлялся отдельно союзный, отдельно зарубежный розыск. Юра Кобулов, как сотрудник Лубянки и сын своего отца, не мог не знать о том, что я в розыске, и, уж конечно, не мог не узнать меня... Они съели мороженое, Юра Кобулов еще раз взглянул на меня и ушел... Прошло много времени, я освободился, вернулся в Тбилиси. Как-то во время застолья мне представился некий Беридзе. Он был близок с семьей Кобуловых, пока их всех не пересажали. Юре удалось избежать ареста, и он рассказал Беридзе о нашей встрече в кафе-мороженое. Он не выдал меня! Я искал Юру - мне хотелось поблагодарить его. Тщетно. Никто ничего не знал о нем!..