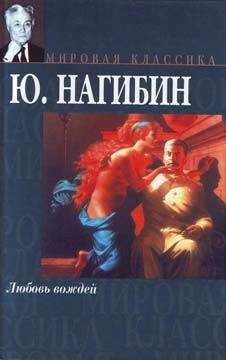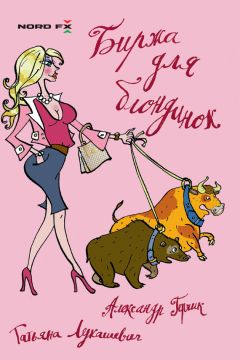Постепенно мужское население нашего дома, кроме стариков, перемещалось в «казенный дом», а оттуда — в отдаленные студеные земли. Среди моих сверстников воцарялась безотцовщина, что казалось естественным. Я не помню, чтобы кто-нибудь жаловался, возмущался или просто говорил: ах, папа!.. То была форма жизни — результат многократных исторических побудок: молодым родовитым офицерам не спалось, они вышли на площадь, сами не зная зачем, ничего не сделали, но разбудили Герцена. С тех пор и пошло, а последствия всех этих нарушенных снов мы не можем расхлебать до сих пор.
Вон куда завела меня попытка рассказать о паршивом мальчишке, оморочившем наш двор. Его власть над нами шла от отца, а сила угрюмого, всегда глядевшего в землю человека в сапогах до колен, кожаной фуражке и бобриковой куртке питалась социальной квелостью населения нашего дома.
Бугрова-отца мы узнали куда раньше, чем Бугрова-сына. Как потом оказалось, по приезде в наш дом тот последовательно переболел корью, скарлатиной, коклюшем и свинкой. Бугрова-отца мы боялись. Военные сапоги и кожаная фуражка, упертый в землю взгляд и бодающая воздух голова вселяли робость даже в таких смельчаков, как Алеша Кардовский, внук знаменитого актера, и таких беспечных сорванцов, как Хачек, сын заведующего шашлычной.
Появившись во дворе, Бугров-сын не выказал поначалу тяги к общению. Он терся возле своего крыльца, колошматил палкой по водосточным трубам, оттуда выгрохатывал грязный лед (дело было в исходе зимы), сшибал сосульки, свирепо давил ледок вымерзших луж, что-то орал. Мы рассеянно заметили разрушительный характер однообразных забав большеголового, неуклюжего мальчика с красными толстыми щеками. Интереса он не вызывал.
Наш двор жил содержательной и разнообразной жизнью. Алеша Кардовский всегда что-то придумывал. Раз он появился опоясанный великолепным деревянным мечом, лезвие было покрашено серебряной краской, а рукоять — золотом. Все мальчишки тоже вооружились чем попало, и мы провели упоительный рыцарский день с турнирами, дуэлями, Куликовской битвой, завершившейся довольно вульгарной дракой, в которой этот меч сломался. В другой раз он принес бумажные полумаски, и мы устроили бал-маскарад. Он же совершил первый парашютный прыжок с крыши дровяного сарая; парашютом служил старый дождевой зонтик.
Красавица цыганка Аза — тонкое смуглое личико и черные глазищи в пол-лица — была постоянно занята туалетами. Она немножко картавила:
— У меня тако пляте, тако пляте! И рюшики, рюшики, рюшики!..
Она доставала из кармана цветную шелковую ленту и навивала себе на шею, вплетала в черные вьющиеся волосы или накручивала на руку от кисти до плеча, жеманничая и что-то тихонько напевая. А уж плечами трясла — как только косточки не сыпались!
Был у нас и филателист — Яша. Марки он хранил в папиросной коробке «Таис». Показывая желающим свою скудную коллекцию, Яша священнодействовал. Осторожно, послюнив палец, выуживал он марку из коробки.
— Это Конго, — говорил с придыханием.
На марке был изображен бегемот с разверстой необъятной пастью.
Затем шла марка с крокодилом — Египет, со слоном — Камерун, с кенгуру — Австралия, остальные были не так интересны: королевские профили разных стран. Мы просили:
— Покажи Папскую область.
Наступал самый торжественный момент. Марка Ватикана была маленькая, треугольная, сильно замусоленная и, по словам Яши, необыкновенно редкая и ценная. Он отдал за нее чуть не половину своей коллекции. Эту марку он брал пинцетом, подаренным ему дедом-врачом, и осторожно опускал на ладонь. Дотрагиваться до нее категорически запрещалось. Мы почтительно смотрели на грязно-желтый кусочек бумаги с каким-то неясным изображением и, вверяясь Яшиной одержимости, цокали языками.
Простодушный Хижняк собирал фантики. Его мать торговала с лотка сластями у церкви Успения Богоматери, и у Хижняка хватало конфетных оберток. Он и вообще был куда более удачливым коллекционером, чем Яша. Игрой в фантики увлекался весь двор, а Хижняк был непобедим и в «пристеночек», и в «расшиши». Но он не знал коварной игры «с ладошки», где выступающий первым фатально обречен на проигрыш, и в один черный день спустил всю свою коллекцию.
А вот длинновязая белобрысая и светлоглазая девочка Хейли ничем не увлекалась, но ужасно любила присутствовать. Более благодарного зрителя и слушателя не сыскать. Шумно дыша полуоткрытым ртом, она торчала возле филателистов, производивших свои хитроумные обмены, возле фантичников, лупивших медным пятаком по сплющенным конфетным конвертикам, старательно хлопала в ладоши, когда цыганка Аза трясла плечами; закатывала светлые речные глаза при очаровательных ужимках этой модницы, сопровождаемых захлебным лепетом «тако пляте, таки рюшики!», но больше всего она любила смотреть, как Хачек гоняет голубей, а маленький Ли запускает бумажных змеев. Она стояла, задрав голову с отвалившейся челюстью и опрокинутыми глазами, в столбняковой завороженности. Алеша Кардовский называл ее в такие минуты «вертикальная покойница». Но без Хейли, без ее ошалелой захваченности всем нашим мероприятиям чего-то сильно недоставало бы. Она была катализатором, сама ни в чем не участвовала, но активизировала происходящее.
Стоит сказать несколько слов о Хачеке-голубятнике и Ли-змеемоделисте. Я не знаю, гоняют ли армянские мальчики голубей, Хачек, во всяком случае, не имел об этом ни малейшего понятия. Дворник Валид устроил ему на помойке голубятню — клетку с откидной дверцей. Это скромное помещение, чаще всего пустующее, изредка населялось голубкой, которую Хачеку покупал отец на Трубном базаре. Хачек горделиво показывал новоселку, как-то очень ловко, профессионально держа ее в руке, затем, выждав появление голубиной стаи в небе над соседним домом или над куполами церкви Скорбящей Богоматери (вокруг нас обитали настоящие голубятники), подкидывал голубку вверх. Случалось, она тут же опускалась на кормушечную полку голубятни, но чаще взмывала в небо и летела к стае. Хачек пронзительно свистел в два пальца, сам же прятался за помойку с концом веревки в руке. Мы тоже прятались кто куда, лишь Хейли замирала в столбняке, но ее недвижная фигура не могла спугнуть голубей опасным проявлением жизни. Хачек, очевидно, ждал, что голубка завлечет чужих голубей в ловушку, но всякий раз сизари и чистые противников сманивали голубку. Хачек не переживал потери, любя обряд гона и находя какое-то странное удовлетворение в самой неудаче. «Опять обхитрили, черти полосатые!» — говорил он гортанным голосом, в котором звучала не обида, а восхищение ловкостью соперников. Хачек считал, что он сам малый не промах и непременно рано или поздно сманит все стаи, козыряющие в небе.
В отличие от него змеемоделист Ли, с глазами-щелочками, был виртуозом своего дела: его хвостатые, ярко раскрашенные змеи стремительно взмывали ввысь, парили и кувыркались над крышей дома, а Ли управлял их полетом, сжимая в кулачке хвостик длинной крученой веревки.
И был среди нас мозгляк, которого мы снисходительно допускали в наше избранное общество: мелочь пузатая, еще под стол пешком ходит, а уже хвастун. Он уверял, что родители скоро купят ему шведку. Вначале мы и внимания не обращали а его лепет, а потом кто-то узнал, что шведка — низкорослая гривастая лошадка, вроде пони, только еще меньше и мохнатая. Тут мы всполошились: ну-ка и впрямь купят. У его отца когда-то собственный выезд был. Надо же, только разнежишься: у Хачека очередную голубку увели, Яшу опять на обмене марок надули, у Хижняка фантики сперли, Хейли коленку ушибла, словом, никто не имеет над тобой никакого преимущества, как вдруг приковыливает этот гаденыш и картавит:
— Шведку… шведку почти купили.
И прямо жить не хочется. Все-таки не удержишься, спросишь:
— Дашь покататься?
— А ты мне чего дашь?
— В рыло.
Не помню почему, но я как-то пропустил явление Мордана народу. Свою кличку, единственно возможную, он получил до того, как состоялось знакомство. Во дворе все происходит быстро, и, когда я столкнулся с ним, он уже чувствовал себя старожилом. Мордан перехватил меня по пути на помойку, где Хачек гонял голубей, и, кривляясь, пританцовывая, стал орать:
— Большой, а без гармошки!.. Большой, а без гармошки!..
Выздоровев, он как-то раздался, распахнулся, шапка на затылке, вид бравый, вполне годный для получения по уху.
— Большой, а без гармошки! — надрывался Мордан.
Я не понимал дразнилки. Какой же я большой, может, на год всего старше Мордана, ну, чуть повыше ростом. Но если б у меня даже была гармошка, мне бы не растянуть мехов слабыми моими руками. И наконец, кто во дворе играет на гармошке? Даже среди взрослых парней нет гармонистов, один бренчит на гитаре, другой на балалайке, есть еще студент музыкальной школы, он на скрипке учится. А гармошка — это деревенский инструмент. Бессмыслицу несет Мордан, и обижаться нечего.