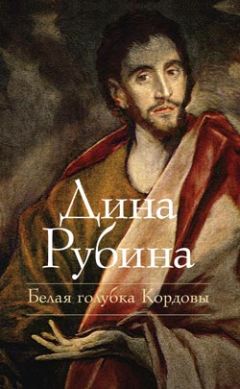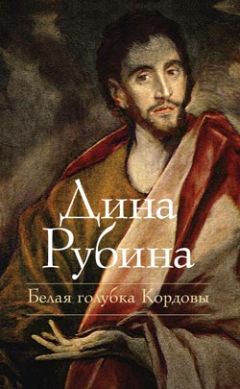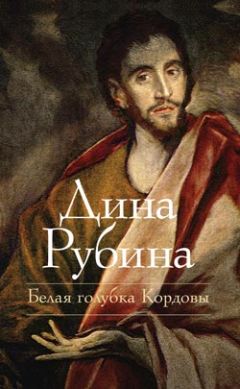Наконец, ее шарящий взгляд споткнулся об него, она раскинула руки, и – мгновение вчерашнего ужаса, описать который невозможно! – пронзительно закричала:
– Маноло, засранец!!! Куда ты вчера сбежал?! Пунетеро!!![40] Мы всю ночь тебя искали!
Подхватив одной рукой подол, неистово размахивая второй, бросилась к Кордовину… и – будто наткнулась на препятствие. Секунды две стояла, приоткрывая губы, беззвучно пытаясь произнести какие-то слова…
– О-о, простите… – растерянно выдохнула она. – Я обозналась… Вы так похожи на Маноло!
– Я не Маноло, – только и смог он произнести, медленно приходя в себя от чувства непередаваемого вязкого кошмара. Какое облегчение, господи: я – не Маноло, ты – не мама. Наперечет вы, божьи матрицы…
– Извините… – повторила она, видимо, еще не в силах смириться. – Теперь я, конечно, вижу, вы гораздо старше. Странно, что я приняла вас за брата… Думала, его отпустили. Так обрадовалась, дура…
Он молчал, впервые в жизни растеряв перед женщиной все слова, да и не желая их произносить, ничего не желая, кроме как удержать ее взглядом, хотя б еще на минуту.
– Это ведь вы были там… вчера?
– Я, – сказал он.
– Да… глупо, даже Лорето ошиблась. Беги, говорит, сейчас же беги, там Маноло сидит себе на площади, прохлаждается. Вот, думаю, мамараччо, каналья![41] У меня вчера чуть сердце не лопнуло, а он! Вы уж меня простите, ладно? Ну, какая же я дура! Конечно, его не могли отпустить…
И, сокрушенно махнув рукой, повернулась и пошла назад.
– Подождите! – крикнул он и кинулся за ней, все еще не зная – что сказать, как удержать ее, и зачем – удерживать? – Подождите, пожалуйста, два слова, минута!
И остановился, как пятиклассник, не выучивший урока:
– Можно… можно я подожду вас здесь?
– Зачем? – спросила она недоуменно и строго. Все мгновенно отражалось на этом подвижном лице: настроение, интонация каждой фразы. Он – не Маноло, вышло недоразумение, так по какому праву он ее задерживает?
– Просто побуду… посмотрю еще на вас, – и вдруг сказал, неизвестно зачем: – Я, знаете, художник.
– Ой, правда? – воскликнула она, и сразу прояснилась, как озарилась: брови взлетели, в серых глазах – совершенное дружелюбие. – Как интересно! Но у меня сейчас урок, еще минут двадцать. А потом я свободна. – И детски-доверчиво: – Вы хотите меня нарисовать?
Он сказал, не сводя с нее глаз:
– Да.
…Через полчаса она возникла все из того же тупика, и у него упало сердце – до чего она юна. Вчера, в платье с вырезом, с утянутой талией, с выразительно подчеркнутой линией бедер, она казалась значительно старше; а эти джинсы да синяя рубашка, да брезентовый рюкзачок за спиной…
Уголовная разница в возрасте, дон Саккариас, предостерег он себя, наслаждаясь видом ее антрацитово сверкающих на солнце, густых, забранных кверху волос. И тут его ждал еще один сокрушительный удар. Подойдя ближе, она свойски проговорила:
– Подставляйте ладонь! – и мигом насыпала ему в горсть тыквенных семечек, которые некуда было деть, и пришлось грызть их, попутно отбиваясь от неотвязных воспоминаний: их терраса, на кухонной верхней полке глиняная «мыска», всегда полная тыквенных семечек, и загорелые икры маминых приподнятых на цыпочках ног…
Нет, здесь мы не сядем, здесь сок дают из банки, сказала она, пойдемте, я знаю хорошее место.
И они пошли не торопясь, вниз по улице, в случайных беспорядочных вопросах и репликах пытаясь нащупать первые контуры узнавания.
Так, значит, вы были вчера на представлении. Ичто, вам понравилось? А, эта, в лиловом платье, это как раз и есть Инма. Она – гениальна, правда? Но, главное, она регулярно выпускает нас на публику. Ведь это очень важно, правда?
Он сказал, что ему очень понравился вчера ее танец, хотя, признаться, не помнил ничего, кроме мелькания желтой юбки и маминого лица. Она мгновенно вспыхнула – изумительный смуглый румянец на всю щеку, достигающий голубой жилки, быстро пульсирующей на виске, – и сказала:
– Спасибо, конечно, но я еще так себе танцую. Это просто Инма – молодец, она гениальный педагог. А я просто так, беру двухлетний курс. Вообще-то я учу биологию в университете.
Он заставил себя еще поговорить о фламенко – видел, что ей приятна и важна эта тема, и приятно, что он интересуется… Да, ей нравится алегриас – за сложность. Там же, знаете, двенадцатисчетный ритм, довольно трудный. Ну, и богатство гитарного сопровождения, и запутанность танца… Еще, конечно, обожаю булериа – за живость, легкомыслие, хотя этот жанр, наверное, самый трудный во всем фламенко. Но в нем огромные возможности для импровизации, спонтанности, понимаете? Он может быть и диким, взбешенным, и очень горестным, ну… как мой характер. Там есть все эмоции, хотя довольно жесткие ритмические рамки. Ну да, для зрителей это просто – зажигательный танец, вы правы. А на деле – куча приемов и всяких сложностей. Я, скажем, долго не могла осилить таконео. Не знаете? Постойте, сейчас покажу… Начинается с голпе – полного удара одной ногой… вот т-так!.. сопровождается пяткой другой ноги и… возвращается к первой… Следите: так! так! и т-так… Заметили?
– Нет, – смеясь и любуясь ею, сказал он для того, чтобы еще посмотреть, как она среди улицы, не обращая внимания на прохожих, показывает ему «удар полной стопой».
– А вы ведь приезжий, да? Я местных сразу определяю. Что вы говорите, иностранец, а я подумала, что вы откуда-то с севера, у вас такой отличный испанский, только небольшой акцент, не могу определить – какой. Тосподи, да здесь все говорят, как бог на душу положит. Испанский язык – это такая мешанина. Знаете, одна мамина подруга в детстве приехала из Валенсии в Кордову, ни слова не говоря по-испански, в ее семье говорили по-валенсийски, это ж диалект каталонского, так ее определили здесь в католический интернат, колехио де монхас, где ей пришлось несладко: их там били линейкой по рукам, ставили на колени и заставляли при этом удерживать на вытянутых ладонях книги.
Мама? Ну… она сейчас живет в Мадриде, вышла замуж: лет пять назад, у него издательство, и ля-ля-ля, он такой элегантный, вежливый, обожает ее, – короче, терпеть его не могу! Нет, иногда я их навещаю. Нет, какой отец, вы что, забудьте. Я живу с тетей и бабушкой, вообще это неинтересно, переменим тему.
Они миновали авенида Сан-Фернандо с двумя тесными рядами апельсиновых деревьев, вышли на пласа де Херонимо Паэс, на которую великолепным барочным фасадом смотрело здание Археологического музея. С правой стороны фасада были возведены леса, портал затянут сеткой.
Там и сели в кафе, заказав по бокалу апельсинового сока. Где-то неподалеку громыхал барабан в сопровождении еще каких-то шумовых инструментов.
– Ну? – деловито проговорила она, вынимая из волос заколку; тряхнула головой, рассыпая кудри. – Давайте же. Рисуйте меня.
Он улыбнулся, извлек из заднего кармана брюк свой вечный блокнотик и стал рисовать, поминутно вскидывая глаза и встречая ответный мамин взгляд… Но она, видимо, не умела даже минуты посидеть спокойно.
– Показать фокус? – спросила она. Быстро разгрызла несколько семечек, выложила их на левое плечо… и тут же две голубки слетелись, сшибаясь и хлопая крыльями, подсуетилась и третья, и мгновенно семечки были склеваны. После чего улетели все, кроме одной, которая, опоздав к раздаче, продолжала переступать лапками по плечу девушки, обмануто озираясь.
– Видите, – сказала та. – Всегда останется такая наивная, что не теряет надежды. Вроде меня.
И проговорила, щурясь в солнечном узоре:
– Вообще-то меня зовут Мануэля.
– А я – Саккариас, – отозвался он.
Почему-то она пришла в восторг от его имени, даже руками всплеснула. Руки были необыкновенной пластической красоты, загорелые, как лакированные, точеные локти, тонкая белая полоска вкруг левого запястья – видимо, переодеваясь, забыла надеть часы. И он подумал: неужели торопилась?
– Мы с вами, – сказала она заговорщицким тоном, – могли бы быть – два рыцаря из домашней сказки.
– Из какой сказки? – машинально переспросил он, продолжая рисовать.
– Ну-у… такой, моей, домашней. Мне дедушка в детстве рассказывал разные истории, он был потрясающий рассказыватель историй. У меня вообще был уникальный дед, он умер два года назад, я ужасно скучаю. Он был садовым архитектором – знаете, что это такое? Например, сады Алькасара… Все эти величественные аллеи – их ведь тоже сочиняли художники, понимаете? Я в них просто выросла. Так вот, дедушка рассказывал истории – слушаешь, не оторвешься. И всегда разделял: эта – народная, эта – книжная, а эта – домашняя. Не знаю, почему разделял, разница в том, что в «домашних» всегда действовали два благородных рыцаря: дон Мануэль и дон Саккариас. И начинались они всегда одинаковым зачином: «В старинном прекрасном городе Кордова жили-были два благородных рыцаря: дон Мануэль и дон Саккариас». – Она расхохоталась. – И при всем их благородстве это были изрядные головорезы.