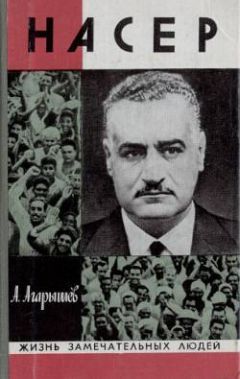Как приятно после московских холодов посмотреть, как в разгар января солнышко играет на зеленой листве! И небо такое светлое, такое детское... Моисей Григорьевич почувствовал себя предателем. Он явно отдыхал и расслаблялся в израильском тепле после родных холодов. Черт возьми, да откуда это? Только сейчас, здесь, на ариэльской улице он может сам себе признаться, что весь этот год в России дня не проходило, чтобы он не скучал по Израилю. Вот так. Здесь скучал по «там», там скучал по «здесь».
Сегодня жена со старшенькой куда-то по делам двинулись, а младшенькая, шмакодявочка, еще до рассвета смылась, оседлав «фиат». И записку оставила глубоко содержательную: «Я уехала. Позвоню». Еще бы написала «Меня нет дома» для полного разъяснения.
– Моисей!
Моисей Григорьевич обернулся. Это еще кто?! Ну и рожа! Серая борода клочьями и такая же прическа. Но что-то в этом чисто русском лице с чисто семитскими чертами было знакомое... Где-то он встречал этого гиганта с сигаретой, неизменно торчащей из уголка рта.
– Лазарь!
Надо же, что время с людьми делает! Капроновый чулок старости.
Лазарь Лившиц усмехнулся:
– Не сразу узнал, да? Видно, здорово я постарел. Да и не виделись-то сколько! Лет тридцать! Кстати, я уже давно не Лазарь, а Элиэзер! Поселенец по кличке Элиэзер Топор!
– Ого! – восхитился Моисей Григорьевич. – Так знаменитый хевронец Элиэзер Топор и мой друг Лазарь – одно и то же лицо?
Они крепко обнялись.
– Был хевронцем, – поправил Элиэзер. – Теперь скорее шхемец. Уже тридцать лет как живу в Самарии.
– Да-да, – подхватил Моисей Григорьевич и вдруг запнулся и нахмурился. – Я... я читал в одной газете... Писали... э-э-э... что ты... что ты стрелял в арабских детей.
– Ссссуки! – рявкнул Элиэзер. – И почему-то добавил по-английски:
– Shit!
* * *
Это была первая интифада. Летали, в основном, камни. Огнестрельное оружие и взрывчатка появились уже потом, после того, как Рабин в 93-м заключил с Арафатом соглашение о мире – прежде это было арабам недоступно. Так что камни и ножи. Но и то и другое временами оказывалось достаточно эффективно. Тирца Порат, забитая до смерти мирными пахарями, их женами и невинными детьми, студенты-ешивники, получившие ножи в спину на улицах Иерусалима, и еще десятки раненых – таковы были результаты первой интифады, прежде чем она начала выдыхаться.
Напротив ешивы «Од Йосеф Хай» находилась школа, где учились четыреста-пятьсот человек. Дня не проходило, чтобы старшеклассники не отметились на «еврейском» фронте. Ни один из проезжающих здесь обладателей желтого номера на машине не только что не мог быть уверенным, но и надеяться не смел, что его не ждет судьба солдатки, которой встречным булыжником проломило череп, или религиозной девушки из альтернативной службы «шерут леуми», которую залило бензином из встречной бутылки и лишь чудо спасло от превращения в живой факел. Поселенцы не раз просили власти поставить там армейский пост. «Щас!» – был ответ.
Тогда роль армейского поста решил начать выполнять Элиэзер. Часами он сидел у ворот школы, не слишком, правда, афишируя наличие оружия. Он понимал, что арабы поверят в то, что еврей осмелится выстрелить, лишь после того, как он это сделает. Он не сомневался, что несколько выстрелов вслед надолго отобьют охоту. Но что-нибудь предпринимать можно было лишь в ответ на их действия. А действий не было. Разумеется, пока Элиэзер был на месте. Стоило ему покинуть пост, как камни начинали лететь с удвоенной силой.
И вот однажды, когда Элиэзер-Топор сидел в ешиве и мирно учился вместе с друзьями, послышалось: «Бум! Бум!» Стены ешивы сотрясались от ударов громадных камней. Последний «бум» пришелся на дверь и произведен был куском стального рельса, эту дверь пробившего. Все семеро разновозрастных студентов, схватив оружие, выскочили во двор, уже усеянный разнообразными «снарядами» и объятый клочьями пылевых облаков. Элиэзер первым, сжимая автомат, бросился к воротам, увидел вдалеке уносящихся подростков, влетел в уже опустевший школьный двор и бросил взгляд на длинное трехэтажное здание. В окнах первого и второго этажей метались лица. На третьем этаже Элиэзер никого не увидел. Конечно, это не означало, что там никого нет, но дальше медлить было нельзя. За спиной были сотни еврейских лиц, на которые были нацелены камни, болты, бутылки с горючей смесью. Элиэзер открыл огонь по третьему этажу и палил, пока рожки не опустели – два собственных и три позаимствованных на расположенном неподалеку армейском складе. Когда «узи» жалобно закашлял на холостом ходу, он подумал, что если сейчас на него помчатся вылезшие из укрытий четыреста-пятьсот учеников школы во главе с учителями, то потом вдове его хоронить будет нечего.
Но никто на него не помчался. Школа была пуста. Ученики вместе с учителями покинули школу через черный ход, а затем перелезли через стену и побежали: первые – жаловаться папе с мамой, вторые – писать жалобу израильским военным властям о поселенческом терроре, копию в «Шалом ахшав» и в Организацию Объединенных Наций. Так и не решаясь повернуться к расстрелянным окнам спиной, Топор поймал попутку и отправился домой. Он был счастлив, что остался жив.
Вдвойне он был счастлив на следующее утро, когда узнал, что ни в кого ненароком не попал – ночью почти не спал: мерещились сваленные в кучу подстреленные им арабские дети, извивающиеся в кровавой агонии.
А вечером был счастлив втройне, когда увидел, что прямо напротив ворот школы установлен блокпост Армии Обороны Израиля. Установлен в соответствии с арабскими жалобами для защиты арабских школьников от поселенцев. Побочным результатом стало прекращение камнеметания. И еще – узнав, что Министерство обороны выделило средство на блокпост, в Министерстве по делам религий решили: «А мы что – рыжие?» и выделили средства на содержание ешивы. Так благодаря выходке бешеного Элиэзера ешива «Од Йосеф хай!» была узаконена и формально признана.
Но и это был еще не конец. Спустя несколько недель житель Канфей-Шомрона и один из основателей и учеников ешивы адвокат Штейн в перерыве, взяв за локоть, отвел Элиэзера в сторону и заговорщицки поведал:
– А ты знаешь, что я узнал по своим каналам? Оказывается, здесь готовился крупный теракт, нападение на наших ребят! Они бы, конечно, тоже ответили так, что мало бы не показалось. Представляешь, чистым, возвышенным, духовным людям, пришлось бы убивать... убивать... убивать... А твоя стрельба все сорвала.
Кого имел Менахем Штейн в виду, говоря о «чистых, возвышенных, духовных людях»? Почему слова его звучали так странно, так туманно, словно говорил он о ком-то неведомом по наитию свыше. Вспомнил Элиэзер об их разговоре спустя пятнадцать лет. В стране в то время бушевал арабский террор, в пещере Махпела, главном святилище Хеврона, арабы, при полном бездействии властей, оскорбляли молящихся евреев, ходили слухи о скором еврейском погроме – по всему Хеврону были разбросаны листовки на арабском, где открыто указывалась дата предстоящего побоища... И наступил день, когда у врача из Кирьят-Арбы Баруха Гольдштейна, известного тем, что лечил и еврейских, и арабских детей, полопались нервы. Во время мусульманской молитвы он ворвался с автоматом в Пещеру Махпела и расстрелял двадцать девять арабов прежде, чем был растерзан толпой. Элиэзер спросил тогда Менахема: «Когда ты говорил о чистых, возвышенных, духовных людях, которым придется убивать, ты предчувствовал вот это?»
* * *
Лазарь уже давно молчал. Уже давно небо над Ариэлем приобрело лиловый оттенок, характерный для того утреннего часа, когда сотни, а может, тысячи, машин срываются с мест и, выдыхая дымы, разносятся во все концы страны. Молчал и Моисей Григорьевич. Перед глазами плыли улицы Канфей-Шомрона и Элон-Море, где он когда-то бывал, Кирьят-Арбы и Хеврона, где не бывал никогда, а вот улицы Москвы, где прожил чуть ли не всю жизнь, вдруг куда-то испарились из памяти.
– Ну вот так! – подытожил Лазарь-Элиэзер. – А как ты? Я вижу – в Ариэле живешь.
– В Ариэле, – солгал Моисей Григорьевич и в ту же секунду почувствовал, что говорит правду. В Москве он проживал. Жил – в Ариэле.
* * *
Следующих гостей привез серебристый шестиместный «Крайслер Пасифика», так называемый кроссовер – нечто среднее между джипом и легковым автомобилем. Вышедший из него обладатель больших живых глаз, тонких черных бровей, крохотных усиков и аккуратных залысин огляделся, подождал, когда из машин вылезут два сопровождающих его мордоворота в совершенно одинаковых черных кожаных куртках и чеканным шагом направился к Коби, который все еще стоял на крыльце своего вагончика. Однако дорогу ему преградили сержант Шмуэль Барак сотоварищи.
– Меня зовут Нахум Мандель, – начал глава делегации. – Вот мой документ.
И он протянул удостоверение сотрудника ШАБАКа. Барак внимательно осмотрел закатанный в пластик бумажный прямоугольничек. Он тщательнейшим образом изучил его, сличил фотографию с оригиналом, затем обернулся к Коби и кивнул. Коби без слов сделал пальцами рогатку, указывая на двух спутников Манделя. Те достали серо-салатовые корочки удостоверений личности.