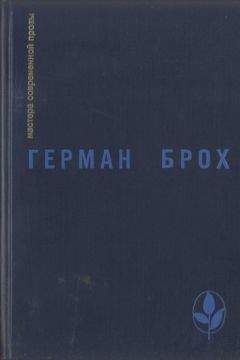Оставалось ждать, набравшись великого терпения, и тянулось это долго, томительно долго. Потом, однако, что-то все же явилось. И странное дело, то, что явилось, было хоть и полной противоположностью ожидаемому, но одновременно как бы послано необходимостью. Явление обозначилось сначала как звукообраз, а именно как медленно выплывающий из тишины звукообраз шаркающих шагов и невнятного бормотания, а затем уж, изрядное время спустя, из тени выплыли и принадлежавшие бормотанию фигуры, три смутных белых пятна, которые приближались медленно, словно нехотя, пошатываясь, спотыкаясь, смыкаясь и вновь размыкаясь, обнаруживая себя в лунном свете и вновь пропадая в темноте. Захолонув от напряженного бдения, захолонув от удушья в ночном сиянье, которым нельзя было дышать, судорожно скрестив руки, судорожно скрестив пальцы на перстне, судорожно подавшись к окну, вытянув шею, следил он за приближением трех теней. На какое-то время они умолкли, но потом, контрастируя с прежней невнятицей, вдруг отчетливо и резко прозвучал голос, каркающий тенор; чуть ли не крикливо, словно обладатель голоса принял бесповоротное, окончательное решение, было сказано:
— Шесть сестерциев.
И опять все смолкло, будто окончательность заявления уже не допускала ответа, но немного погодя ответ все же был дан.
— Пять, — произнес другой мужской голос, неблагосклонно, но благодушно, спокойный, чуть заспанный бас, явно желавший оборвать дальнейшие переговоры: — Пять.
— А вот те шесть! — ничуть не смутившись, прокаркал тенор, а потом, после некоторого невнятного препирательства, бас вернулся к первоначальной решительности:
— Пять, и ни денария больше.
Они остановились. До сих пор нельзя было понять, о чем у них шла речь, но тут вмешался третий голос, и принадлежал он пьяной женщине.
— Отдашь ему шесть! — приказала она с каким-то жирным взвизгом, за нетерпеливой требовательностью которого таилось что-то подобострастно-услужливое, однако ничего тем самым не достигла, ибо ответом был гортанный издевательский смех. И, обозленный смехом и надменной издевкой, женский голос захлебнулся от ярости: — Только бы пожрать, а платить кто будет… И мясо тебе подай, и рыбу, и все… — Когда же в ответ снова раздался лающий мужской смех, она продолжала: — И муку я должна купить, и лук, и много еще, и яйца, и чеснок, и масло, и чеснок… и чеснок… — Пьяно заглатывая воздух, под аккомпанемент раззадоривающего мужского смеха, который перешел в какое-то судорожное бульканье, она упорно цеплялась за недоступность чеснока: — Чеснок тебе подавай… чеснок…
— Ты права, — прокаркал тенор и неожиданно, без всякого перехода произнес: Уймись!
Она же, будто слово это имело всепроясняющую силу, не унималась:
— …чеснок… я должна купить чеснок…
Их снова поглотила тьма, и из тьмы по-прежнему раздавались возгласы о чесноке, и вдруг, как по заказу, лихорадочный мрак ночи наполнился и набух всеми кухонными запахами, какие только способен был выдохнуть город, тяжелыми, сытыми, похотливыми, маслянистыми, приятными и чудовищными, приемлемыми и тошнотворными, подгорелыми, пахнущими сковородкой, жвачными, — летаргическая трапеза города. На несколько мгновений стало тихо, воцарилась до странности глухая тишь, словно тягучий чад поглотил и эту троицу, и, даже когда они снова вынырнули на свет, им больше нечего было сказать: чесночный аргумент был исчерпан, они молча приближались, становясь все зримее и зримее, но при всей молчаливости отнюдь не став миролюбивее; прежде всех показался необыкновенно тощий парень, который, задрав кверху плечо, тяжело опирался на палку и угрожающе поднимал ее всякий раз, когда ему приходилось останавливаться, чтобы заставить двух других следовать за ним; в некотором отдалении от него — женщина, толстая и массивная, и, наконец, пожалуй еще более толстый, еще более пьяный и, во всяком случае, еще более неуклюжий, второй мужчина, этакий пузатый мастодонт, который никак не мог сократить постоянно увеличивающееся расстояние между собой и женщиной и в конце концов попытался задержать ее брюзгливым нытьем и воздетыми кверху детскими ручками; так они приближались, являя глазу неуверенные шатания, которые стали еще неувереннее, когда у выхода на площадь они очутились в колеблющемся свете бивачного костра; так они предстали его взору вместе со своей возобновившейся перебранкой, ибо прихрамывающий предводитель вознамерился пересечь площадь, свернув налево, в сторону гавани, а женщина бросила ему вслед «Сволочь!», так что он, отказавшись от своего намерения, повернул обратно и пошел на нее, размахивая палкой; это ничуть не испугало женщину, продолжавшую сыпать бранью, зато повергло в ужас толстяка, который с визгом обратился в бегство, а тем самым вынудил женщину догонять его и тащить назад, — успех так обрадовал тощего, что он опустил палку и исторг тот лающий, густой, презрительный смех, который и раньше доводил женщину до исступления. И теперь результат был точно такой же, женщина рассвирепела.
— Марш домой! — повелительно крикнула она тощему насмешнику, а когда тот, подчеркивая свое прежнее намерение, вытянутым дрожащим пальцем указал в сторону гавани, она, кипя от злости, в свою очередь простерла руку, только в противоположном направлении. Убирайся домой, в городе тебе нечего делать… меня не надуешь, знаю я, что тебе там надо, знаю я твоих потаскух…
— Ха? — Дрожащий палец успокоился, кисть руки приняла форму рюмки и поднялась ко рту. Для толстяка, прислонившегося к стене дома, зрелище оказалось столь убедительным, что он тотчас выполнил свое бесповоротное решение.
— Вино, — просветленно икнул он и тронулся в путь.
Женщина заступила ему дорогу.
— Ах, вино, — яростно взвизгнула она, — вино?.. К шлюхам своим собрался, а я, я должна ему готовить… Свинину ему подавай, все ему подавай…
— Поросятинка, — прокаркал тенор.
С презрением она оттолкнула его назад к стене И почти со слезами обратилась к другому:
— Все хочешь от меня поиметь, но чтоб бесплатно…
— Пять я ему заплачу, сказал ведь… пойдем, получишь вина.
— Чихала я на твое вино… заплатишь ему шесть.
— Он тоже получит вина.
— Не нужно ему твое вино.
— Не твое собачье дело, ты, стерва; я заплачу ему пять, и ни гроша больше, и вино он получит.
— Пять, — с достоинством провозгласил толстяк у стены.
Женщина набросилась на него:
— Что ты сказал? Что сказал?!
Он испуганно искал оправдания и в конце концов дружески-примирительным тоном изрек:
— Дерьмо.
Что ты сказал ему?! — Она не отступала, и, загнанный в угол, он повторил с вымученной храбростью своего нового убеждения:
— Пять.
— И у тебя еще язык поворачивается, ах ты, пьянчуга, ах ты, винная бочка… — а я должна для вас жратву добывать… без денег добывать…
На толстяка это не произвело никакого впечатления.
— Вино… получишь еще и вино, — пропел он блаженным фальцетом, словно ожидая награды за свою храбрость. Она схватила его за тунику.
— Он все деньги шлюхам относит… пусть платит шесть, слышишь, шесть…
— Шесть, — покорно повторил толстяк и хотел было сесть, однако женщина ему не позволила. Для тощего это стало источником нескончаемого, громогласного, подкрепляемого взмахами палки удовольствия:
— Пять, он сказал, и пять я ему заплачу, на том и порешим!
— А вот и нет, — зашипела она и, продолжая держать толстяка за тунику, прокричала ему в лицо: — Скажи, что должно быть шесть, скажи! — При всем этом ее голос, сколь ни надрывным он был, сохранял заискивающе-услужливый оттенок; только невозможно было установить, кому этот оттенок адресован. Во всяком случае, тощий, умерив свою веселость, чуточку подобрел:
— Ну чего ты? Муку-то все равно получишь от Цезаря бесплатно…
Она оторопела, и это не только позволило толстяку, норовившему вырваться из ее цепкой хватки, перевести дыхание, но и дало ему возможность наконец-таки покончить с мерзкой денежной проблемой.
— Да здравствует Август! — прокаркал он в направлении императорского жилища, а второй, вскинув вверх палку, тоже оборотясь ко дворцу, поддержал радостно-писклявый возглас громовым «Да здравствует!», и еще раз прозвучало пискляво-восторженное «Да здравствует Август!», и еще раз тощий гаркнул «Да здравствует!».
— Заткнитесь, заткнитесь, вы оба! — с раздражением и гневом перебила женщина, и действительно, на секунду-другую это возымело действие: едва ли из уважения к приказу женщины, скорее из уважения к Цезарю, но так или иначе оба замолчали, даже оцепенели, толстый — с открытым ртом, тощий — с воздетой палкой, и, пока вооруженная палкой тень трепетала на стене в ярких отблесках костра, а женщина, уперев тяжелые руки в бедра, лицезрела чудодейственный итог, можно было подумать, что все застыло в неподвижности отныне и навсегда, но тут неподвижность была прервана новым приступом лающего смеха, обрублена хохотом, в который включилась теперь и толстая пара, сперва раздался звонкий, высокий, как заливистый щебет, смех толстяка, а затем безвольно-клохчуще, дробно загоготала женщина, палка отбивала такт, смех рвался из трех глоток, лихорадочный смех, клокоча изливавшийся из неведомой огненной глубины, трехглавая насмешка, которую они обрушивали на самих себя и друг на друга, трехтелое незнакомое, незнакомейшее божество. Но вот веселье достигло кульминации, и тощий это уловил.