Герман Брох - Избранное
На сайте mybooks.club вы можете бесплатно читать книги онлайн без регистрации, включая Герман Брох - Избранное. Жанр: Современная проза издательство -,. Доступна полная версия книги с кратким содержанием для предварительного ознакомления, аннотацией (предисловием), рецензиями от других читателей и их экспертным мнением.
Кроме того, на сайте mybooks.club вы найдете множество новинок, которые стоит прочитать.
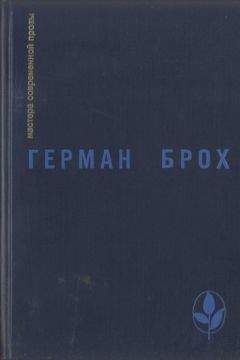
Герман Брох - Избранное краткое содержание
Избранное читать онлайн бесплатно
Ведь ничто не изменилось: молчаливо застывшие, неизменные в видимом, глубоко погруженные в купол неба стояли когорты звезд, к северу — рукою Геркулеса поверженная Змея, к югу — грозный Стрелец, неизменные в невидимом стояли внизу глядящие во тьму леса, прорезанные извивами луннозыбких ночных путей, по которым спешило в поисках искрящегося источника сонно-сытое зверье, вечно неизменные в незримости недостижимо далекой родины горы, тихо сияя вершинами, приветствовали посылающую сияние луну, далеко-далеко и невидимо шумело серебряным шумом море, так неизменно стояла перед ним ночь, раскрытая в видимом и невидимом, одна из мириад ночей в неизменной неизменности с первоначала, раскрытый мир в мириадах невидимостей, сфера за сферой отделенных друг от друга, неизменное преддверие реальности; о, ничто не изменилось, но все отодвинулось в ту новую даль, что отменяет всякую близость, пронизывает всякую близость и переводит ее в неисповедимое, делает чуждой собственную руку и собственный взгляд простирает к невидимому, во всеприсущую даль, которая засасывает в свое Нигде свет и даже догорающий там внизу за стеной отблеск костра, даль, развоплощающую каждый звук жизни, даже одинокий, редкий шаг часового там внизу, и укореняющую их в неслышимом, даль в близи, сверхдаль в дали, самая внешняя и одновременно самая глубинная граница обеих, нереальное в реальности их обеих, зачарованное в них обеих дальнедалекое, отрешенное — Красота.
Ибо
на дальней-дальней, отрешенной самой черте —
возжигается луч Красоты,
из отрешенной дали струится он в человеческую душу,
отрешенный равно и от познанья, и от вопрошенья,
лишь для взора легко постижимый,—
Красотой сотворенная целокупность мира,
гармония и равновесье запредельной дали,
проникающей все поры пространства, насыщающей их далью
и — бесовская сила! — не только превращающей
самые резкие противоречья
в равновеликость и равнозначность,
но и — еще сильней бесовство! — повсюду
наполняющей даль пространства далью времен,—
и покоится в каждой точке равновесомый поток времени,
снова сатурнова полон покоя;
нет, не исчезло время — длится вечносущее Днесь,
Днесь Красоты, словно при виде ее
человек, хоть и выпрямившийся, хоть и воспрявший,
волен снова вернуться вспять,
к лежачей чуткой дремоте,
распластаться снова меж безднами неба и низа,
снова весь превратиться
в чуткий взор, посылаемый вдаль,—
словно снова дарует бездна причастность,
свободную от познания и вопрошенья,
возвращает первобытное древнее право
отречься от познания и вопрошенья,
отречься от различенья добра и зла,
бежать человеческого долга познания,
укрыться под сенью новой
и потому ложной невинности,
дабы слились навеки
постыдное и достойное, страдание и спасенье,
жестокость и жалость, жизнь и смерть,
непостижное и постижимое
в одну единую, различий не знающую совокупность,
воедино спаянную Красотой,
безмятежно разлитую в осиянном взоре,—
и потому это как колдовство,
и, заколдованная и околдовывающая,
бесовски всепоглощающа Красота,
всеохватно ее сатурново равновесье,
но потому оно и отпаденье,
возврат к добожественному хаосу,
воспоминанье человека о чем-то,
вершившемся задолго до его предзнания,
воспоминанье о добожественном становленье вселенной,
воспоминанье о сумеречно-безликом преддверье творенья,
не знающем клятвы, не знающем роста, не знающем
обновленья,
и все же воспоминанье, и, как таковое, свято,
хоть это святость без клятвы, без обновленья и роста,
бесовская святость отрешения,
опьянения Красотой,
на дальней-дальней, отрешенной самой черте,
и воли нет преступить черту,
и влечет нас вспять, за преддверье начала,
добожественное с ликом божественным,
Красота;
ибо столь всепоглощающая была распростерта перед ним ночь, столь отрешенная, столь полная серебряной пылью отзвуков, доносившихся от ее отдаленнейших границ, что она со всем в ней сокрытым стала неразличима, напев ли, раскат ли смеха, эхо ли звериного крика, шум ли ветра — неведомо. И это враждебное знанию незнание, которым словно для защиты своей нежности и хрупкости укутывается красота, вынуждена укутываться, ведь сотворенная ею целокупность мира мимолетней, беззащитней, уязвимей, чем целокупность познания, а кроме того, в противоположность ей, всегда может быть повреждена знанием — это незнание сияло ему навстречу со всей округлости зримого вместе с красотою, нежно и притом почти бесовски, как соблазн, как спесивый соблазн равнозначности, бесовски нашептанный с самой дальней черты, проникающий в самую глубь, поблескивающий океанский шепот, пронизанный луною и сам пронизывающий его, уравновешенный, как парящие приливы и отливы вселенной, чья шепчущая сила смешивает между собой видимое и невидимое, связывает многообразие вещей в единство сущего, многообразие мыслей в единство мира, но лишает то и другое реальности, претворяя в красоту: неведенье есть ее знание, непознанность — ее познание, неведенье без преимущества мысли, непознанность без преизбытка реальности, и в оцепенении их равновесия цепенеет текучее равновесие между мыслью и реальностью, цепенеет миротворящая игра вопрошенья и ответа, всего, что доступно вопрошенью и ответу, и если красота остановит равновесомый поток внутреннего и внешней), то превратится в оцепенелом равновесии в символ символа. Так своды ночи обнимали его, равновесомые в соразмерности красоты, темный блеск сатурнова пространства ночи распростерся над всеми временами, правда оставаясь во времени и не выходя за пределы земного, раскинувшийся от границы до границы и сам в каждой точке самая внешняя и самая глубинная граница, так ночь была раскинута вокруг него и в нем, и от нее, от земного ее равновесия, вместе с ее красотой прихлынул к нему символ символа, неся с собою всю чуждость самых внешних и самых глубинных пограничных далей и все же странно знакомый, укрытый незнанием и все же странно раскрытый, ибо теперь, словно в магически внезапном новом освещении, предстал ему как символ собственного его образа, при всей отдаленности так отчетливо, будто созданный им самим, воплощенье Я во вселенной, воплощение вселенной в Я, нерасторжимый двойной символ земного бытия: сияя в ночи, сияя в мире, красота заполняла все пределы безграничного пространства и, погруженная вместе с этим пространством во время, несомая сквозь времена, стала их вечно длящимся Днесь, стала безграничной ограниченностью времени, стала единым символом скудельности, ограниченной во времени и пространстве, являя печаль ограниченности и именно поэтому красоты в посюстороннем;
так в своей беспредельной, неизбывной печали
открывается Красота человеку,
открывается в своей самодостаточности,
самодостаточности символа и равновесья,
колдовская радуга меж двумя полюсами —
взором, созерцающим Красоту, и миром, исполненным Красоты,—
каждый полюс себе довлеет и в собственном замкнут пределе,
каждый в собственном равновесье, и потому
в обоюдном равновесье оба, оба в едином пределе;
и открывается так человеку
самодостаточность прекрасноликой скудельности,
самодостаточность предела,
несомого временем и застывшего вне времени,
всеохватно парящего и колдовски прекрасного,
уже не обновляемого вопрошеньем,
уже не расширяемого познаньем,—
необновимо-нерасширимо застылая цельность предела,
скованная равновесьем
правящей в нем Красоты,
и эта самодостаточная цельность
зрима в каждой точке предела,
будто каждая точка и есть уже самый предел,
зрима в каждом отдельном образе, в каждой вещи,
в каждом деле рук человеческих
как символ его предельности,
как самый последний его предел,
где уже исчезает всякая сущность,—
о беспредельность символа,
о беспредельность Красоты,
беспредельная в силу слиянности
границ внутри и вовне,
в силу самодостаточности беспредельно ограниченного, —
о ограниченная беспредельность, о печаль человека;
так открывается ему Красота —
как пограничное действо,
а граница, внутри и вовне,
будь то грань отдаленнейшего горизонта иль граница
единственной точки,
пролегает между конечным и бесконечным,
в дальней-дальней, отрешенной самой дали
и все же еще в земных пределах,
в земном времени,
она ограничивает время, и, ею очерчено,
медлит оно и покоится у предела,
но не преодолевается ею,
ибо она просто символ, земной символ преодоления времени,
просто символ преодоления смерти, но не само преодоление,
граница человечности, еще своего предела
не преступившей,
и потому граница бесчеловечности;
так раскрывается человеку действо Красоты
как то, что оно и есть, как то, что и есть Красота,—
бесконечность в конечном,
земная призрачная бесконечность
и потому всего лишь игра,
игра в бесконечность, утеха
земного человека в его скудельности,
игра в символы у последнего земного предела,
Красота, игра в себе,
игра человека с собственным символом,
дабы хоть в заклинании символа — а иначе не выйдет —
избыть страх одиночества,—
игра как без конца повторяющийся красивый самообман,
попытка спастись бегством в Красоту,
игра в прятки;
и так раскрывается человеку
застылость разукрашенного мира,
его неспособность к развитью и росту, ограниченность
его совершенства,
непреходящего лишь в самоповторенье
и потому постоянно теряемого и вновь искомого
ради призрачного его совершенства, —
и, как призрачная забава, раскрывается ему
искусство, служащее одной Красоте,
его отчаяние, его отчаянные потуги
сотворить непреходящее из преходящего —
из слов, из звуков, из камней, из красок, —
дабы сотворенное им пространство
пережило века
как отмеченный Красотою памятник для потомков, —
о искусство, сотворяющее лишь пространство
в каждом образе,
бессмертное в пространстве, а не в человеке,
и потому бесплодное, лишенное роста,
обреченное создавать
лишь дюжинное, бесплодное совершенство,
что никогда не достигает себя самого
и, чем совершенней становится, тем больше отчаивается,—
о искусство, обреченное возвращаться снова и снова
к истоку в себе самом
и потому равнодушное,
непреклонное к людскому горю,
ибо оно для него всего лишь бренность,
всего лишь слово, цвет, звук или камень,
всего лишь повод, чтоб искать Красоту
в непрестанном самоповторенье;
и раскрывается Красота человеку как жестокость,
как растущая жестокость необузданной игры,
сулящей лишь в символе наслаждение бесконечностью,
сладострастное наслаждение, гнушающееся познанием,
наслаждение призрачной земной бесконечностью,
способное бездумно обречь
на страданье и смерть,
ибо вершится оно в отрешенном пределе Красоты,
достижимо лишь взору, достижимо лишь времени,
но не человечности, не долгу человеческому;
и потому Красота раскрывается человеку
как закон, чуждый познания, —
безнравственный закон, сам себя узаконивший,
себе довлеющий, собою очерченный,
необновимый, нерасширимый, неумножимый,
закон, в коем правило игры — наслажденье,
сладострастное, похотливое, порочное,
и неизменно вершится эта игра —
упоение Красотой, опоение Красотой,
самовлюбленная пляска Красоты на краю бытия,
дабы занять время, но не отменить его,
поиграть со случайностью, но не подчинить ее,—
и без конца повторяется, без конца продолжается игра,
но все ж изначально суждено ей пресечься,
ибо лишь человеческое — божественно;
и раскрывается Красота человеку как хмельной угар,
как игра, проигранная изначально,
вопреки непреходящему равновесью,
в коем она вершится,
вопреки непреложности, с коей
она обречена повторяться,
проигранная, ибо неизбежность повтора
уже есть и неизбежность провала,
и неизбежно друг за другом влекутся
хмель повтора и хмель игры,
оба во власти не времени, а длительности,
оба во власти дремоты,
оба не властны расти, лишь растет их жестокость,
рост же подлинный, растущее знанье
человека, причастного познанию,—
рост этот длительности неподвластен, повтором не скован,
он вершится во времени,
расширяя время в безвременность,
и безвременность эта,
поглощая всякую длительность и дремоту,
становясь все реальней и подлинней,
взрывает границу за границей,
от самой глубинной до самой внешней,
преодолевает границу за границей,
символ за символом,
и хоть не разрушается этим последняя символика Красоты,
хоть неизменно нетронутой и непреложной
остается ее соразмерность,
но столь же непреложно и неизбежно
обнажается скудельная суетность ее игры,
скудельного символа ничтожность,
открывается скорбное отчаяние Красоты,
от чада своего отрезвевшей,
и, утратившее познанье и память,
потерянное в неведенье и беспамятности,
остается отрезвевшее Я
во всей его сирости, —
и он, в чью душу струился свет этого символом ставшего Я, этой красоты, этой игры, этого свершения, свет, с неумолимой непреложностью струившийся ему навстречу от самых глубинных и самых внешних пределов мира, от самых глубинных и самых внешних границ ночи, так что он нес в себе, укрывал в себе все это действо и одновременно был им охвачен, ибо прияло его пространство непреложности, пограничное пространство его Я, приял пограничный предел мира, символ его беспредельности, прияло пространство игры, пространство запредельной близи, пространство Красоты, пространство символа, которое во всякой точке своей пребывает под вопросом и однако же, пресекая все вопросы, застывает, цепенеет в оцепенелой беспредельности, а сам он, оцепенелый, задушенный оцепенением, он чувствовал, постигал, что ни одно из этих пространств не превышает пределов прозрачного купола, воздвигнутого между небом и низом, что все они расположены еще в промежуточном царстве, где бесконечность еще не властна, они, пожалуй что, уже граничат с бесконечностью, но сама эта граница пребывает еще в царстве земного: о владенья Красоты, еще принадлежащие земному, о эта земная, еще земная бесконечность! Она-то и прияла его, охватила его; он объят был пространством земного дыхания, но изъят из пространства сфер, пространства истинного дыхания. И, чувствуя эту объятость, угадывая в ней первопричину всякого оцепенения, первопричину всякой оцепенелой бездыханности, он чувствовал вокруг взрывную мощь, которая противодействовала, не давала сомкнуться объятию, чувствовал непреложность, неизбежность взрыва, чувствовал ее до самой глубины своего Я, до самой глубины души, до самой глубины своего дыхания и недыхания; он чуял этот взрыв и знал о нем, чуя и зная, как зреет он в нем и в мире, как таится в нем и одновременно объемлет его, он просто физически чуял его как облеченное плотью, подстерегающее нечто, которое, сдавливая горло ему и целокупности зримо-незримого мира, отнимало дыхание, а все же колыхалось внутри и вокруг него бесовским соблазном, накатывая на него, и вскипая в нем, и смыкаясь над ним, воплощенно-развоплощенное нечто, соблазн уничтожения и всеуничтожения, разгрома и всеразгрома, соблазн отдать себя на потребу, соблазн поднять себя на смех, уничтожить себя, удушливый, сдавливающий горло, пронизывающий ознобом и все же сулящий освобождение, так чувствовал он затаенную, напряженную готовность к взрыву, близость неисповедимо-древней беспамятности, вот так он это чуял, так знал, так желал этого в поистине первобытном своем бунте против оцепенелости, против данности, против жесткого кокона ограниченного пространства, против несогласия и разлада, против все еще сущего, но вместе и против печали, которая глубинно присуща всякой игре и всякой Красоте, о, это был соблазн могучего первородного вожделенья, это было могучее страстное нетерпение, жажда взорвать все и вся, взорвать мир и взорвать свое Я, сотрясаемое жаждой еще более огромного, еще более древнего знания, о, это было угадывание, учуивание, узнавание и, сверх того, даже познание, для него это стало познанием и самопознанием, ибо из приявшего его пространства глубочайшего предзнания прихлынуло к нему последнее постиженье, и, точно озаренный молнией, понял он, что распад Красоты это попросту голый смех, а смех предрешенный распад Красоты, что смех изначально сопутствует Красоте и навеки с нею неразлучен, улыбкою переливается он в ней у нереальных пределов запредельной дали, однако ж затем громкими раскатами исторгается из нее у поворотной черты, исторгается как грохочущее, громовое уничтоженье времен, как бесовская сила всеистребленья, смех, соперник мировой Красоты, отчаянный смех взамен утраченной уверенности познанья, смех, означающий конец безуспешного бегства в Красоту, безуспешной игры в Красоту; о печаль над печалью, игра с игрою, упоенье тщетой упоенья, печаль вдвойне, игра вдвойне, упоенье вдвойне, и всегда смех есть бегство из убежища, отринувшее игру, отринувшее миры, отринувшее познанье, распад мировой печали, щекочущая людские глотки жажда бесконечности, распад оцепенелого пространства Красоты, зияющая бездна, в безымянной безъязыкости коей гибнет даже Ничто, обезумевшее от немоты, обезумевшее от смеха, и тоже божественное;
Похожие книги на "Избранное", Герман Брох
Герман Брох читать все книги автора по порядку
Герман Брох - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mybooks.club.




