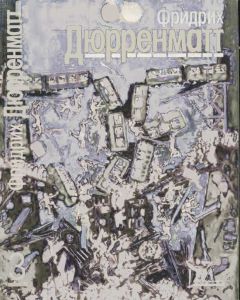Голос принадлежал Адольфу Фронтену, учителю здешней школы. Он приехал в деревню из столицы кантона и застрял тут. Это и есть Мудрость Провидения, считал он, у этой деревни такой вид, словно кто-то сверху опорожнил на нее свою прямую кишку. Однако она все же лучше других захолустных дыр, поскольку здесь нет причин воздерживаться от пьянки. Великану с огненно-рыжей шевелюрой и такой же бородой, белоснежными кустистыми бровями над ярко-синими глазами и лицом, так густо усыпанным веснушками, что он говаривал о себе: «Матушка позабыла обтереть меня при рождении», было уже под шестьдесят. Когда-то он писал удивительно трогательные рассказы: «Праотцы сыновей Зеведеевых», «Что было бы, если бы архиепископ Мортимер забеременел?», «Тихо, но ужасно», «Жалоба скота и женщин», «Молчание труб иерихонских» — в общей сложности меньше пятидесяти страниц, получил премию Маттиаса Клаудиуса[51], объездил при финансовой поддержке общества «Pro Helvetia»[52] и Института Гёте[53] Канаду, Эквадор и Новую Зеландию, поколотил по пьянке инспектора гимназии и стал учителем сельской школы в ущелье Вверхтормашки, откуда с той поры больше никуда не выезжал. И если прежде он был одним из первых, кто под влиянием Роберта Вальзера[54] ввел простодушие детского восприятия в швейцарскую литературу, то теперь Фронтен объявил все свои литературные произведения дерьмом. Правда, писать не перестал. Наоборот. Он писал постоянно, писал, когда вслух декламировал стихи, писал, когда пил, писал даже во время школьных уроков, вырывал листки из блокнота и отшвыривал их в сторону, они валялись повсюду — в школе, на улице, в лесу за пансионатом на другой стороне ущелья. Но писал он лишь отдельные фразы, которые называл «Опоры мысли», такие, например, как: «Математика — зеркальное отражение меланхолии», «Физика имеет смысл лишь как каббала», «Человек придумал природу», «Надежда предполагает ад и его создает», но иногда записывал и отдельные слова, например: «ледоставня», «апокалипсо», «сапогоня», «автоматерь». Иногда приезжал его издатель, энергичный, спортивного вида мужчина, он собирал листки, подобранные и сохраненные школьниками, — на этих записках они могли немного подзаработать. «Опоры мысли» были уже изданы в пяти томах. Критики были в восторге, лишь один из них утверждал, что Конрадин Цаванетти, четырнадцати лет, может до того точно воспроизводить почерк Фронтена, что автором многих фраз (например: «Учителя даже пускают газы на чистом немецком», «Сверху пьют, снизу стишки пописывают» и т. д.) является, скорее всего, этот шалун. Издатель объявил о новом романе Фронтена, тот опроверг это сообщение и стал еще более ярым мизантропом. Его коллеги по писательскому союзу называли его «Рюбецаль[55] из ущелья Вверхтормашки». Когда в деревню наезжали критики, Фронтен исчезал, в журналисток он молча упирался взглядом, а если одна из них ему нравилась, он тащил ее в свое жилище, валил на кровать, овладевал силой, а потом прогонял прочь, так и не сказав ей ни слова. Собрание деревенской общины вновь и вновь не утверждало его в должности учителя. На его уроках все ходили на голове. Если он писал, а ученики поднимали слишком большой галдеж, он прямо с ноги швырял в класс один из подбитых гвоздями и вечно не зашнурованных башмаков. Как-то раз башмак попал в Эльзи — шрам у нее на лбу все еще был виден. Ученики с грехом пополам овладевали чтением, письмом и таблицей умножения. Но поскольку другого учителя найти не удавалось, он оставался и продолжал писать и пить. Кроме того, он был полезен деревне в роли писаря. Староста относился к нему приязненно, хотя Фронтен говорил на правильном литературном языке, а старосте этот язык давался с большим трудом. Он поднялся на второй этаж, где над классной комнатой жил Фронтен. Тот сидел за столом в кухне, рядом стояла наполовину опорожненная бутылка рома. Он писал. Староста сел к столу напротив него. Фронтен налил себе рому, продолжая писать, потом поднял глаза, открыл окно, выбросил в него все, что написал, закрыл окно, достал вторую рюмку, поставил ее на стол перед старостой, наполнил ромом и вновь сел.
— Ну, рассказывай, — сказал он и внимательно выслушал старосту, который подробно изложил свои заботы.
— Претандер, — сказал Фронтен, — в это дело я не хочу вмешиваться. Тебя интересует судьба собаки. А я ненавижу собак. Гёте тоже ненавидел собак, он даже ушел с поста директора театра из-за того, что в нем должна была выступать и потом действительно выступала собака. Возможно, Мани — исключение, возможно, этот пес — поэтическое создание, вроде Мефистофеля в образе пуделя. Но спасти его уже не удастся. Слишком сильно он впился зубами в свою жертву. Правда, я не могу поклясться, что он вцепился именно в тот зад, в какой следовало, потому что в такой свалке было не разобрать. Выбрось распрю с пансионатом из головы. Что Эльзи девка не промах и охоча до мужиков — это факт, и что зад сторожа пострадал — это тоже факт, а факты лучше не трогать.
— О какой свалке ты говоришь? — спросил староста.
— Я в то утро в лесу за флигелем декламировал стихи:
И милый лебедь,
Пьян поцелуем,
Голову клонит
В священно-трезвую воду, —
ответил Фронтен, — которые сами по себе бессмысленны, ибо лебеди не целуются, а отвратительный эпитет «священно-трезвая» совершенно не вяжется с прозрачной водой озера. Но еще бессмысленнее то, что произошло на моих глазах в пансионате перед дверью в кухню. Ох, Претандер, Претандер.
Он умолк, налил себе еще рому и продолжал молча сидеть.
— Что же? — спросил староста. — Что же ты видел?
— Они валялись в луже молока, — ответил Фронтен. — Эльзи, два парня и пес. Я слышал дикие нутряные вопли, долетавшие в лес высоко над пансионатом. Было похоже на Вальпургиеву ночь, хотя на дворе было утро.
Он опять налил себе рому.
— Но ты, Претандер, не вмешивайся. Эльзи как-нибудь сама справится. По чести сказать, ей даже и справляться-то нет нужды, она сильнее нас всех. А пес — это правда, что он сам к тебе приблудился?
— Он просто случайно забрел в наше ущелье, — ответил староста.
— Как и я, — ввернул Фронтен. — Я тоже случайно забрел в ущелье Вверхтормашки. А что еще остается делать в этой стране, староста, как не осесть здесь?
Потом он сидел, уставясь в одну точку перед собой, забыв о старосте и не замечая, слушает ли он его еще или уже ушел. Вдруг подошел к окну, распахнул его и крикнул:
— Проклятая госпожа фон Штейн![56]
В старосте было слишком много крестьянского, чтобы выйти из себя из-за вероятного насилия над Эльзи, но той не было шестнадцати, и, значит, имело место развратное действие, как сказал Лустенвюлер, поэтому староста сердился на себя за то, что не подал жалобу на развратное действие обидчика. На самом же деле он тревожился только о псе, на которого могли взвалить всю вину, что и произошло на самом деле. Теперь нужно было его спасать, Эльзи, слава Богу, и впрямь была изнасилована, школьный учитель видел это своими глазами. Но поскольку староста был крестьянского склада, он не особенно торопился с подачей жалобы и только в конце февраля поехал с почтовой машиной в соседнюю деревню, а оттуда поездом, останавливающимся у каждого поселка, в столицу кантона. Он попросился на прием к начальнику кантонального управления — тот обязан выслушивать любого деревенского старосту своего кантона, хотя их было больше двух сотен. Но уж деликатничать с ними было вовсе не обязательно.
— Претандер, — набросился на старосту начальник управления, которому подчинялись также юридическое и полицейское ведомства кантона, прежде чем староста вообще успел открыть рот и изложить свою просьбу, — эта история мне слишком хорошо известна, у меня уже давно лежит на столе требование арендатора пансионата о возмещении ущерба, твой окаянный пес разделал под орех его сторожа и все еще бегает на свободе, а этот бедолага все еще не может сидеть, известная часть тела у него разорвана в клочья, и сомнительно, удастся ли ее вообще подштопать. Доходит до тебя, Претандер? Ты даже представить не можешь, что тебе светит. А я тебе добра желаю. Прояви добрую волю и пристрели пса.
— Пускай добрую волю проявляют эти типчики из пансионата, — возразил староста. — Они изнасиловали Эльзи, а Мани только ее защищал.
— Изнасиловали? — опешил начальник управления. — Это кто же? Ночной сторож? Ведь это у него зад разодран в клочья.
— Нет, Эльзи изнасиловал кто-то другой, — заявил староста. — А Мани вцепился в сторожа по ошибке.
Начальник управления наморщил лоб.
— И об этом ты сообщаешь только теперь? — спросил он.
— Я думал, что Мани ничего не будет, если я об этом не сообщу, — пояснил староста.
Начальник откинулся на спинку кресла.