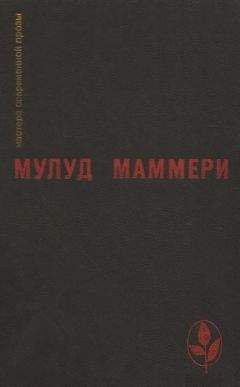Гим пользовался методом шаманов: приобщал своих читателей к таинству транса. Его выводили из себя мелочные, как он презрительно именовал их, доказательства. Сам он шел к цели напрямик, не давая опомниться ни себе, ни читателям. Мир Гима был сродни колдовским заклинаниям и изобиловал смелыми определениями. Почта, которая приходила на каждую из его статей, делилась на две равные части, уподобляясь добру и злу в манихействе: часть писем выражала яростное возмущение, другая — столь же ярое почитание, все остальное исключалось.
В последнее время восторг его почитателей граничил с исступленным безумием, ибо Гим начал писать в новой манере. Мурад как-то сказал ему, что он ставит своих читателей перед чересчур суровым выбором: либо полное неприятие, либо безусловная капитуляция, поэтому Гим счел необходимым пойти на некоторые уступки, отдавая дань переменчивой моде. Он слыл властителем дум кучки интегристов. Ему было известно, что те, кого он с напускной снисходительностью и недвусмысленной завистью называл западниками, втайне посмеивались над ним, стоило ему оказаться среди них. Они упрекали его в небрежении к истине, весьма поверхностном уважении научных данных и даже в отсутствии элементарного здравого смысла.
Тогда Гим набросился на книги. В трудах, популяризующих новейшие теории, он с жадностью черпал то, что, как ему казалось, подтверждало Истину, ключ к которой, в любом случае, держал в своих руках он, Джамель. С этого момента он стал пересыпать свои статьи набором всевозможных формул, уравнений, диаграмм, которые его приверженцы в упоении заучивали наизусть, тайком передавая друг другу из рук в руки.
Для Камеля же главное достоинство статей Гима заключалось в том, что на них полностью можно было положиться. Творения Гима казались на первый взгляд неистовыми, но утверждавшиеся там положения не вызывали ни малейших сомнений, являя собой нагромождение бесспорных, привычных понятий: аутентичность, специфичность, революция, демократия (причем настоящая, а не какая-нибудь там формальная демократия так называемых либеральных систем правления), народные массы (чьи помыслы находили всякий раз свое выражение в текстах, написанных Гимом). К тому же Джамель умел обходить стороной такое затасканное понятие, как арабо-исламская сущность. Пески у него обычно лишь создавали видимость движения: в творениях Гима можно было плавать, испытывая иногда качку, но всегда в безопасности, под надежным присмотром.
По любому поводу Гим готов был цитировать Коран, Аверроэса, которого он именовал Ибн Рошд, Ибн Халдуна, величайшего социолога всех времен, Маркса, Мао, иногда Маркузе и почти всегда Ленина. В результате в редакции газеты пришли к выводу, что это и есть выражение исламского социализма, а так как никто толком не знал, что же на самом деле представляет собой исламский социализм, все были признательны Гиму за то, что он-то, по всей видимости, знал это — ну что ж, пускай хоть он.
Мурад и на этот раз принес на всякий случай текст Джамеля, который давно уже дожидался своего часа.
Как обычно, читать статью было поручено Суад. Ей нравились заклинания Гима. Своим красивым голосом она принялась модулировать фразы. Суад знаком был не только их ритм, но и то, из чего они сотканы: душа, специфика собственного Я приравнивались там к половине mV2[87]. Остальные покорно слушали привычную музыку, не препятствуя плавному течению прибывающей воды в уэде. «Должны ли мы следовать далее по предначертанному пути, внося свою лепту в поиски некоего грааля, предвещающего расцвет человеческой личности посредством полифонического звучания, или погрязнуть в хитросплетениях западной речи, довольствуясь убогими эрзацами, которые преподносит нам жалкий слепок Запада? That is the question[88]».
Последние слова Суад произнесла, млея от восторга.
— И это все? — спросил Камель.
— Тут еще четыре или пять строк… «Суровый климат Запада, способствуя затуманиванию умов, порождал обскурантизм, словно отражаясь в диалектическом зерцале, и тогда над мусульманской Испанией запылали тысячи огней Weltkultur[89], гораздо более специфической в своей универсальности, чем универсальной в своей специфике». Теперь все.
— Наконец-то, — с облегчением вздохнул Камель.
— Что вы хотите этим сказать? — спросил Буалем.
Буалем принадлежал к числу посвященных, которые два раза в неделю собирались на квартире у Гима слушать его лекции относительно развития исламской мысли.
— Fog[90] и сироп с миндальным молоком, вот это что. Как, спрашивается, читатели могут переварить такое?
— Ничего другого у меня нет, — сказал в ответ Мурад.
— Тогда напиши сам.
— Да ничего не происходит, новостей никаких нет.
— И не надо! Напиши основополагающую статью, нечто такое, что заставило бы читателей встряхнуться, вывело бы их из повседневной тягомотины, это им пойдет на пользу.
— Вы не успеете прочитать.
— Примем на веру… если, конечно, тебе не вздумается выступить с призывом к убийству.
Вошла секретарша.
— Что мне делать с канадцами? Они уже целый час ждут у тебя в кабинете, — сказала она, глядя на Мурада.
— Сейчас иду.
Он встал. Общественные связи тоже входили в круг его обязанностей.
— А со статьей я что-нибудь придумаю, — сказал он на прощанье, — в любом случае принесу ее завтра в типографию.
Дверь в его кабинет была открыта.
— Извините меня, ребята, я вас сейчас не ждал.
— Ничего, — сказал в ответ тот, что был поменьше ростом, интеллигентного вида (другой тем временем сосредоточенно разглядывал паркет). — Если вы заняты, мы можем зайти в другой раз.
— Ни в коем случае, — запротестовал Мурад. — Здесь ведь редакция газеты «Альже-Революсьон»… Итак, чем мы можем вам помочь?
— Так вот. Его зовут Лонгваль. Меня — Принц. Мы оба сторонники независимости Квебека, вы, наверное, это знаете?
— Да, знаю, — сказал Мурад.
— Мы приехали в Алжир, потому что являемся представителями революционно-освободительного движения.
— Так же, как и мы.
— Вот именно… как вы.
— С жильем вам удалось устроиться?
Мурад подождал, но Принц как будто не слышал вопроса.
— Где вы живете? — продолжал настаивать Мурад.
— Дело не в этом.
— А в чем?
— Нам нужна работа.
В словах Принца ощущался запах земли, восемь месяцев утопающей в снегу. Только полярные льды способны были сохранить этот аромат древней земли, где некогда жили его предки.
— Ваша профессия? — спросил Мурад.
— У меня диплом химика.
— А у вас?
Лонгваль, бессильно опустив плечи, по-прежнему, не отрываясь, глядел в одну какую-то точку на полу.
— Он механик, — сказал Принц, — умеет мастерить разные механизмы… Понимаете?
— Понимаю, — сказал Мурад.
— И вот мы решили между собой: Алжир — это фён[91]! Это страна социализма… А в социалистической стране существует право на труд. Но когда приехали, то увидели: у многих алжирцев у самих нет работы.
— В любой слаборазвитой стране рабочих рук всегда больше, чем работы. Видите ли, здесь не Канада.
— В Канаде есть работа, но мы не могли там оставаться, потому что… потому что не знали, что нас ждет.
Принц стал оглядываться по сторонам, словно ища что-то.
— Мы не знали…
— Мы знали, — послышался невыразительный голос Лонгваля.
Он помолчал немного.
— Нас ждала смерть.
Голос Лонгваля звучал печально:
— Смерть — от нее не убежишь, но до этого хотелось бы успеть что-то сделать.
Затрещал телефон. Словно автоматная очередь. Мурад снял трубку.
— Я уже знаю, спасибо. Амалия прилетит завтра в Мэзон-Бланш[92]… Да, я встречу ее… Извините, — сказал Мурад, опять повернувшись к канадцам. — Скажите, а партия субсидирует вас?
— Мы только месяц как приехали, — заметил Принц.
— Да и потом… — прервал его Лонгваль, но тут же умолк, словно ждал чьей-то подсказки.
Мурад готов был закричать, чтобы заставить Лонгваля оторвать взгляд от гвоздя, приковавшего его глаза к полу.
— Алжир, — продолжал Принц, — ведет в настоящее время переговоры о продаже газа Канаде. В партии нам советовали подождать.
— Да, вы попали в неудачный момент.
Мурад тотчас же пожалел о своих словах.
— Мы подумали, — снова раздался глухой голос Лонгваля…
— Да, — подхватил Принц, — мы подумали, что выход все-таки можно найти.
— Разумеется, — сказал Мурад.
— Если бы нам попросить, например, политическое убежище…
— То мы могли бы получить права, — закончил его мысль Лонгваль.
Мурад глянул на них и только теперь понял, что у них, как говорится, молоко еще на губах не обсохло.