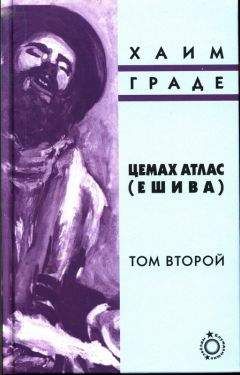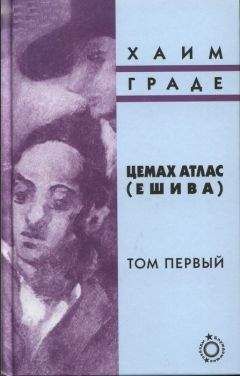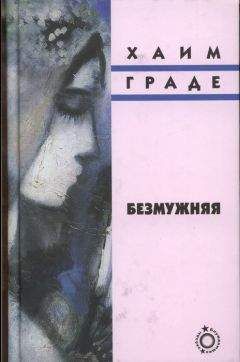Но когда Цемах открыл глаза, он увидел, что и на этот раз он был слишком поспешен и, соответственно, не прав в своих суждениях. Слава стояла над ним, нагнувшись, с виноватой, смущенной улыбкой на губах и со слезами в глазах. В памяти Цемаха раскрылась потайная дверца, через которую он попал в полутемную лавку в Амдуре, когда он прощался со своей первой невестой. Двойреле Намет поняла тогда, что он больше не вернется, и смущенно улыбалась, как сейчас Слава, и у нее в глазах стояли такие же слезы. Он обязан быть осторожен, чтобы не совершить еще раз ту же самую страшную ошибку и не поступить со своей женой так же, как он поступил с первой невестой.
Веля, торговка фруктами, ожидала, что ее сын вернется из ешивы с бородой, как подобает изучающему Тору еврею. А он вернулся с голой физиономией, как у деревенского иноверца, даже без намека на бороду. Она потрогала свой высокий лоб и рассказала ему, что стала носить субботний парик в будние дни, потому что будничный парик совсем развалился. Теперь она ищет соблюдающего субботу парикмахера, чтобы купить у него недорого новый субботний парик. Сын слушал, а мать, словно заговаривая его мрачное молчание, продолжала рассказывать, что зимой она подружилась с женой его ребе. Каждый раз, когда раввинша Юдес ходила на Шавельскую улицу[214] к торговцам мануфактуры, она заходила спросить, что Хайкл пишет из ешивы. Раввинша Юдес не задирала нос перед бедными и простыми еврейками, хотя ее муж и был большим ученым и праведником. Правда, раввинша Юдес чересчур шумная, но при этом сама терпеть не может болтливых баб. Ее муж, видимо, очень терпелив… От раввинши рукой не отмахнешься… И Веля запуталась. Она вытерла уголки рта, словно стирая яд злоязычия, и неожиданно закончила:
— Как я вижу, ты ничего не знаешь о том, что из лавки раввинши выкрали весь товар.
От стыда и боязни, как бы реб Цемах Атлас не рассказал Махазе-Аврому о произошедшем в Нареве, Хайкл не пошел к ребе даже после того, как узнал об ограблении лавки раввинши. Он беспрестанно мысленно ругал жену реб Цемаха, «эту тетку», которая довела его до того, что он наделал глупостей и должен был так стыдиться. Веля чувствовала, что ее сын что-то скрывает, но боялась спросить, почему он не идет к ребе. Она только повторяла каждый день:
— Странно, раввинша больше не показывается. Ты ничего не знаешь? Она больше не приходит за товаром в наш район?
Хайкл не знал, что ответить, и пытался сам себя уговорить, что ему хорошо снова быть дома. Канун Пейсаха, и он шатается, как когда-то мальчишкой, по тому же самому двору с покосившимися домами, со стен которых отваливается штукатурка.
Соседки с закатанными рукавами выбивали подушки в красных наперниках, лупили плетеными выбивалками постельное белье, и перья летели во все стороны. Женщины скребли кухонными ножами лавки и столы, драили наждачной бумагой посуду. Подросшие девочки вытряхивали нафталин из вынутой летней одежды и упаковывали зимнюю. Чумазые дети прыгали рядом с переполненными сточными канавами, рядом с лужами вокруг маленького насоса, в которых отмокали рассохшиеся деревянные кадушки. Бондарь стягивал новыми обручами старый бочонок, чтобы клепки не выпадали. Из мастерской котельщиков выходили хозяйки с медными лужеными кастрюлями. Двое евреев, одетых в белые фартуки и с большими ступами в руках, чтобы толочь мацу в муку, вошли во двор. На них сразу же набросились женщины и вопящие дети. Одетая еще в валенки и в шерстяной головной платок, как зимой, широкая, невысокая хромая женщина тащила пузатую стеклянную бутыль с пасхальным рассолом. Носильщик сгибался под тяжестью большой корзины с мацой, а покупатель этого скудного хлеба изгнания шел вслед за ним с довольным видом. Все суетились и готовились к празднику. Веля, торговка фруктами, приняла Пейсах в свой дом раньше остальных. Разве это шутка? Ведь ее ученый сын приезжает из ешивы! Только честь выполнить заповедь покупки вина для двух пасхальных седеров она оставила ему. И что в итоге? Она увидела, что, если ему не напомнить, он, может быть, даже не вспомнит, что полагается проверить, не осталось ли в доме квасного[215].
За день до Пейсаха Веля рассказала сыну, что раввинша Юдес была у нее. Оптовики больше не захотели давать раввинше товар в кредит, поэтому она по совету мужа закрыла лавку совсем и теперь не ходит в город. Правда, сегодня ей пришлось пойти за покупками для праздника, и ее муж просил передать Хайклу, чтобы он пришел.
— Почему ты боишься показаться у своего ребе, тебя прогнали из ешивы? — сухо и сердито спросила мама.
— Кого выгнали, меня?! Я сегодня же буду у него! — ответил Хайкл с гневом.
Он пришел к ребе вечером и встретил его одетым в пальто, с палкой в одной руке и с пустым ведром — в другой. Махазе-Авром поприветствовал его и заговорил так буднично, словно они виделись лишь вчера.
— Я за водой для выпечки мацы[216]. Хочешь помочь?
Махазе-Авром в последний день перед началом Пейсаха всегда пек мацу в собственной печи с особо строгим соблюдением всех предписаний Галохи. Выполнение этой заповеди он не доверял никому, и себе самому тоже, и усердствовал до тех пор, пока маца совсем не подгорала. Теперь он шел набрать воды, которая должна была простоять всю ночь, прежде чем он вольет ее в тесто для мацы.
— Реб Цемах Атлас уже уехал домой, — шепнул он, давая понять, что ему известно о поведении Хайкла в наревской ешиве и ему незачем расспрашивать об этом. Хайкл взял ведро у ребе и молча пошел за ним.
Поплавский переулок выглядел в свете солнечного заката словно вымощенный золотом. Большие окна синагоги уютно светили Хайклу, напоминая ему о днях, которые он провел в Поплавской синагоге над томом Геморы. Здесь, в пригороде, канун Пейсаха не ощущался. Переулок дремал пустой и тихий, как в субботу после чолнта. Ребе и его ученик направились к реке, спустились к самому берегу и стали искать, где можно начерпать воды. Махазе-Авром, глаза которого показывали, что он целиком настроен на выполнение заповеди, начерпал воды, а Хайкл вытащил ведро. Ему казалось, что в полном ведре находится какая-то тварь, которая дрожит и без слов умоляет его, чтобы он не прикрывал эту воду куском толстого белого холста, потому что под этим покрывалом ей холодно, темно и она умрет. От страха перед этим приступом безумия Хайкл быстро прикрыл ведро. Но когда он поднял полное ведро, ему показалось, что вода стала тяжелее, как будто невидимая водяная тварь действительно умерла. В окнах Поплавской синагоги закатное золото уже потускнело, и оконные стекла загадочно переливались оттенками фиолетового, темно-синего и матово-зеленого, как будто синагога прощалась навсегда с этим изучавшим Тору парнем и с загадочной тварью в полном ведре воды, предназначенной для выпечки мацы.
— Я бы помог тебе нести, но у меня нет сил, — сказал реб Авром-Шая, остановившись на тротуаре, чтобы Хайкл тоже остановился и передохнул. — Знаешь, я собираюсь уехать в Эрец-Исроэл и поселиться там.
Реб Авром-Шая произнес это так тихо и таким обычным голосом, что Хайклу показалось, что он недостаточно хорошо его расслышал или плохо понял. Он снова пошел с полным ведром, слушая, что рассказывал ему ребе: община богобоязненных евреев Иерусалима обратилась к нему с предложением стать ее раввином. Он ответил, что не хочет брать на себя ответственность главы раввинского суда, но, как всякий еврей, хочет поселиться в Эрец-Исроэл. Теперь он получил письмо с сожалением общины из-за его нежелания принять на себя должность раввина, но все-таки с обещанием похлопотать перед англичанами, чтобы получить для него разрешение на въезд в Эрец-Исроэл, и он вскоре его получит.
— Ты ведь, конечно, слышал об ограблении, произошедшем у нас, и о том, что я добился от Юдес, чтобы она больше не торговала. Я рассчитываю добиться от нее и того, чтобы мы поехали в Эрец-Исроэл. Пока что это тайна, и ты не должен ни с кем об этом говорить. Приходи в праздник на угощение, — реб Авром-Шая остановился у входа в дом и позвал раввиншу, чтобы она забрала у Хайкла ведро с водой.
Он пригласил меня на угощение, как какого-то дальнего родственника. Он больше не считает меня своим учеником, ему не жалко уехать и оставить меня, — думал Хайкл, спускаясь с Зареченской горы. Он-то как раз знал, что, если бы не ребе, он бы оставил учебу еще раньше. Теперь, когда ребе отказался от него и его больше не будет поблизости, дорога к светской жизни перед ним открыта. А что скажет мама? Она ведь с ума сведет своим плачем. Она его до сих пор, хоть ему уже за двадцать, содержит на убогие доходы со своих корзин, лишь бы он продолжал изучать Тору.
«На угощение я не пойду», — сказал себе Хайкл и действительно не ходил к ребе в первые дни Пейсаха. Вокруг него бушевали праздник и весна. А ему было темно, холодно и тоскливо, как горе, на которую падает тень другой горы, и эта тень не сдвигается с места, пока светит солнце.