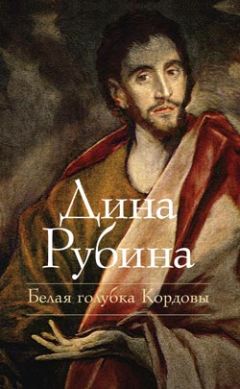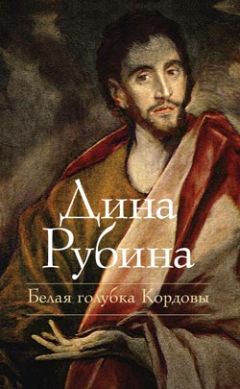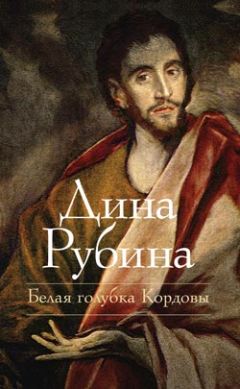– Понятия не имею, сам посмотри.
Он заглянул: действительно, очень старая книга, век шестнадцатый-семнадцатый – жаль, некогда ощупать-осмотреть…
– Открыта на эпизоде с жертвоприношением Авраама, – сообщил он, и прочитал: «Ahora se que ternes a Dios, porque no me has negado ni siquiera a tu hijo unico».
(«Ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня».)
– Только не придумывай глубоких смыслов, вале? Это тетя смахивает пыль перьевой болтушкой, ветер листает страницы, ну, и так далее. По-моему, ее бы стоило просто поставить в шкаф, но тетка у меня с приветом, знаешь, – семейные традиции, патриархальный уклад и все такое. А сама, небось, наверху себе пристроила еще одну душевую.
– Ну, а на втором этаже, – сказала она, сворачивая экскурсию, словно ей в голову пришла какая-то новая срочная мысль, – там три комнаты: моя, мамина, когда она приезжает, и еще один закуток, если кто из друзей останется ночевать. А еще выше – теткина мансарда… Она, между прочим, тоже рисует, и очень высокого о себе мнения, так что я не рискую тебя туда волочь, хотя там забавно.
– У тебя замечательный дом… – сказал он искренне. – Правда, замечательный, Мануэла. Спасибо, что привела. И вообще, спасибо… за весь этот день. А сейчас я уж точно должен идти.
Она смотрела на него, будто ждала чего-то или силилась придумать еще что-нибудь, что удивило бы его, остановило. Совсем как он сегодня утром. И вспомнила:
– Да, а как же та штука? Ну, та, старинная… Взгляни уж напоследок, это минута, и пойдешь.
Взяла его за руку – первое прикосновение за весь день, которое обожгло его, как мальчишку, – и потащила в чулан-закуток, из которого еще одна дверь вела…
И в этом закутке, под портретом какого-то мрачного седобородого каноника, резко обернулась, как оступилась, приникла к нему и, обхватив обеими руками за талию, поднялась на цыпочки, и совершенно по-детски стала целовать в лицо, тычась, куда попадала.
От неожиданности он задохнулся, стиснул ее, и потрясенными губами ринулся встретить губы, что одновременно тянулись к нему и уклонялись от встречи.
Было нечто запретное в этих странных слепых ожогах-прикосновениях, нечто родственное – так губами трогают температурный лоб своего ребенка. И в этой невозможности проникнуть в нее настоящим глубоким поцелуем тоже было – новое, волнующее, смешное…
– Ты… колючий! – проговорила она с детской досадой, слегка оттолкнувшись от него обеими руками, как отталкиваются от берега. – Ну, пойдем, я же хотела показать тебе. Это в бабушкиной комнате…
И открыла дверь, нимало не заботясь о безобразном стрелковом профиле его фигуры. Он ослеп от света, упавшего на него, и конвульсивно соорудил из обеих ладоней амбразуру в области паха.
– Не бойся, ее не разбудишь, – сказала Мануэла так, словно сейчас, там, в закутке ровным счетом ничего не произошло. – Кроме Альцгеймера, у бабушки еще полная глухота. Тетка перед уходом ее покормила, теперь она будет спать часов до шести, потом я ее помою и накормлю.
Какая тетка, какой Альцгеймер, о боже, смилуйся, дай же мне силы доползти до отеля…
В этой комнате, с двумя большими окнами на улицу, из обстановки современным было разве что инвалидное кресло, в котором спала очень бледная, иссохшая старуха… Кровать в углу, комод, три стула и круглый стол пребывали в комнате, вероятно, со времен ее заселения… Здесь, надо полагать, и жили оба старика, пока дед не умер.
– Она не поднимается? – спросил он, чтобы что-то сказать. Сейчас он уже не понимал – а вдруг девушка и вправду только оступилась там, в темноте, а он набросился на нее, как…
Дикая, дикая ситуация, бежать, не оглядываясь!
– Нет. Уже восемь лет. Так странно – а дедушка умер в один миг: выпил первый стакан вина за обедом, и упал лицом на стол… Ну, гляди.
Она махнула рукой в сторону домашней часовенки – вертикальной ниши в стене с маленькой, в локоть высотой, раскрашенной фигурой девы Марии, под ногами которой пульсировали огнем две лампадки… Интересно, что она имеет в виду под «еврейской штукой» – разве саму Мадонну?
И вопросительно обернулся.
– Да не туда, вон, на комоде!
Он перевел взгляд по направлению ее руки…
Мучитель-сон обрушился на него со всей своей невыразимой, тягучей пыткой.
На старинном комоде, инкрустированном слоновой костью, уютно, словно из него и произрастал, словно воскрес, всплыл из барахольных завалов старого мошенника Юрия Марковича, словно вынырнул из плена инквизиторских снов и больного бреда, – буднично стоял его наследный субботний кубок.
Его пожизненный кошмар.
Его преступление.
Его утраченный удел…
Звенящий тонкий зов, долетевший из юности, заглушил и отсек иные звуки – голос Мануэлы, старухин храп, невнятный шум улицы за окном и одушевленный лепет воды в фонтане в патио – лепет воды, что странным образом проникал и обнимал весь дом.
Не веря своим глазам, он шагнул в сторону комода…
еще… еще ближе… Стал мучительно и тошнотворно пробираться меж стульями и креслом старухи, меж столом и каким-то ларем, спотыкаясь о какие-то пуфики и половики. Достиг, наконец, протянул, как в снах бывало, руку, схватил кубок – тяжелый, осязаемый, – поднес его к лицу и принялся расчленять и сочленять кружение маленьких угловатых букв, наполовину спрятанных среди вьющегося узора листков по днищу-юбочке – до блеска начищенной, в отличие от его пропавшего близнеца…
Он стоял, склонившись над серебряным кубком, не слыша встревоженного голоса Мануэлы, медленно покручивая в пальцах тяжелое старое серебро, и если б сейчас кто-нибудь тронул его за плечо и спросил, где он находится – он вряд ли ответил бы сразу.
Целая вечность прошла, минут пять, пока смысл выбитых букв стал сцепляться в слова, а те – во фразу:
«Князьям изгнания братьям Кордовера Заккарии и Иммануэлю дабы не разлучались во мщении отлил эти два кубка из священной чаши иерусалимской в день отплытия галеона мастер Раймундо Эспиноса».
Он поднял голову.
– Как… – пересохшим горлом спросил он, – как фамилия твоего деда?
– Кордовес, – удивленно ответила она, – Мануэль Кордовес, – и с беспокойством: – Почему ты спрашиваешь?
…Имя его предков, как дерзкая ящерица, сбрасывало хвосты, петляя меж столетиями, оставляя в дураках врагов и преследователей; сутью же оставалась Кордова, исток и корень, основа, дух, удел: ослепительный свет и черная тень на белой стене, и могучая жажда жизни, и воля к действию, и хладнокровное мужество, и собственное понятие о законе и беззаконии.
Вот оно что… вот, чью картину ты так ловко перелицевал… вот у кого ты отнял имя… вот кого продал в застенки инквизиции… вот на ком так отлично заработал.
А теперь ты вроде собирался оприходовать эту девочку? – твою, уж не знаю даже, кто она тебе: сестра, племянница, мама или дочь, – что знаешь ты о коловращении душ на орбитах родовых, вековых кланов?
– Саккариас! – воскликнула она. – Что с тобой?! У тебя такое лицо, точно ты увидел преисподнюю!
– Я ее увидел, – проговорил он, поставил кубок на место и пошел из комнаты прочь, путаясь в коридорах, минуя столовую с развернутым жертвоприношением Авраама, и сумрачную, с сине-зелеными ромбами в окнах, кухню. И слышал только умиротворяющий лепет старого фонтана, лепет, похожий на плач, что без конца однообразно и жалостно проговаривал одно и то же, почему-то русское, слово: «приговор… приговор… приговор…».
Она догнала его в патио – он остановился там, у древней бело-голубой колонны, не совсем понимая – как отсюда выйти.
– Куда ты, куда ты! – повторяла она в смятении, вцепившись в его локоть. – Ты не можешь уйти, ничего не объяснив! Неужели тебе удалось там что-то прочесть?! Ты что, умеешь читать эти буквы?
– Я из Иерусалима, – сказал он просто, – я как раз из тех, перед кем твои земляки «закрыли все двери, само собой». Пусти, детка, мне надо идти…
– Нет, ты не пойдешь! Не пойдешь! Ты мне скажешь, что прочитал там! Саккариас! Не молчи, это подло. Что там написано?!
– Что ты мне – сестра, – устало проговорил он. —
Или мать.
Наступило молчание.
– Ты – сумасшедший, – сказала она, отпустив его руку.
Он отвернулся, толкнул решетчатую дверь и спустился по ступеням.
В эту минуту зазвонил его сотовый телефон. Несколько секунд потребовалось, чтобы он осознал – что это звонит, нащупал в кармане, вытащил и открыл трубку.
– Сеньор Кордовин? – спросил незнакомый и смутный женский голос. Смутный – на фоне какого-то, не уличного, а другого, учрежденческого шума.
– Сеньор Кордовин? Вы слышите меня? Я звоню из больницы «Ла Пас», Мадрид. К нам привезли сегодня сеньору Маргариту Шоркин. Вы знаете ее, да?