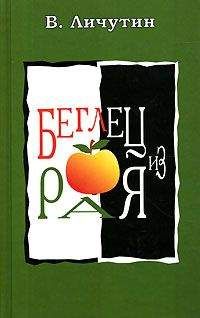...Так сходят с ума, и тут важно вовремя выломиться из заведенного круга, ибо, самовольно превратившись в закодоленную на вязку лошадь, многажды повторяя пройденный путь, тупо глядя под ноги, можно скоро рехнуться. Тебя неумолимо тянет обратно к мнимой улике, а ты держи себя за шкиряку: «Павел, не суетись, как вошь на гребешке. В сумке пусто, там ничего нет, ты только что осмотрел ее. Ведь ты знаешь, что не виноват, уже три дня ты не выходил из дома даже в магазин. Лучше ложись баиньки».
Марфинька не то чтобы стушевалась в моей памяти, поблекла иль недосягаемо затаилась. Хотя я уже уверился, что она погибла, что навеки засыпана землицей, и сейчас ночной ветер шуршит бумажными цветами, а по примятому суглинку холмушки спешат по своим ночным делам таинственные кладбищенские существа. Но она, вроде бы отлетевшая в эфир, была и возле, совсем рядом, всего лишь на расстоянии руки, оставалась живою за прозрачной шторою у окна, на балконе, у стола за книгою, в ванной комнате и на кухне: Марфинька шалила со мною, играла в прятки, кудесила, и только силою внушения я отодвигал женщину от себя, одолевая сумеречность скверных мыслей. И я убеждал себя, раздвоясь умом и сердцем: если Марфинька жива, то нечего и переживать, и детские наивные шалости превращать в похороны, а значит, никто ко мне не явится с арестом. Но если ее убили, то ничем уже не поможешь, отчаянно колобродила девица, жила с вызовом, и судьба подвела ей черту... А я ее нисколько и не любил; разве можно полюбить чужого человека, который вдруг явился из ночи и под солнцем исчез, как полдневная тень. Дурная баба, налезла на шею, как хомут, и давай давить клещами, будто засупонила обкладенного жеребца.
Я решительно рухнул на диван, чтобы освободиться от наваждения, закрыл лицо подушкою, сдавил веки. Спать-спать-спать... Вдруг все помрачилось во мне, осклизло, и наволока сразу намокрела от слез. Нет, я не плакал, да и не было во мне такого необоримого горя, чтобы я разрыдался по покоенке, как девица. Но сголовьице-то странно намокло, будто на лицо плеснули из ковшика морским рассолом... Тут и Марфинька опустилась возле, прохладные пальцы пропустала под подушку, нашарила мои губы, де, не тревожься, милый, я возле... Я испуганно отпрянул, тараща глаза. Звякнула форточка, круто загнуло штору, серебристый мерцающий ручеек, причудливо ослеживаясь на полу меж шкафов, протек в прихожую и потух, испарился. Я напряженно застыл, прислушиваясь: никто не шел ко мне.
Но ведь мой страх, мое смятение должны были как-то отозваться вовне, в каком-то закоулке Москвы, где сейчас над крохотными уликами корпит дознаватель, и вызвать в нем недоверие к психологу Хромушину, бывшему сожителю. Но и оставаться в подобном неведении я, оказывается, не мог. Ищут – не ищут? Или я сам попусту нагромоздил на себя нелепиц? Я как психолог теоретически, наверное, точно оцениваю чувства убийцы, и, конечно, совсем другое состояние переживает человек, с умыслом или по страсти совершивший подобное преступление, которому при желании можно найти множество причин...
Я включил свет, стал лихорадочно искать телефон Фарафонова. Но у себя ли он, мировой человек? И вообще, где может заякориться бродячий бескорневой триффид, как попало высевающий свои семена? Я мысленно представил его огромную пустынную квартиру, зачехленные диваны и кресла, бронзу и посеребренные паникадила, укутанные в порыжелые от тления газеты, Айвазовского и Шишкина в тяжелых лепных багетах и безрукую мраморную деву на столике в углу, так напоминающую Марфиньку, тоскливо озирающую свои истерзанные предплечья, мощные тугие лядвии, в перевязочках живот, готовый обильно плодить. Но как баюкать убогонькой давножданное дитя? Как приклонить к сосцам, истекающим скисающим от горя молоком? Зачем жить калеке, если не может она спеленать ребенка? Есть присловие: «Руки оторву (отобью), чтобы неповадно было». Вот какое наказание придумали бессердечные люди...
А Фарафонов-то неожиданно оказался у себя. Он сразу схватил трубку, будто дежурил у телефона, и голос был не горевой, но возбужденный, будто Юрию Константиновичу только что вернули долг, на который он уже махнул рукой.
– А я только что с поминок... К тебе хотел, да... – Фарафонов споткнулся, прислушался, с каким чувством отзовутся, не подадут ли надежд. Я же оглушенно молчал. – Старичок, какую девку профукал. Прости, прости. Ну жалко же, жалко... Жил бы, как у Христа. Все проблемы с плеч, да. А родня-то... С золота едят, в золоте ходят. Сестра – красавица, я на нее глаз уронил. Вот, старичок... – Фарафонов шепелявил, как бы засыпая на ходу, снижая голос, потом схватывал воздуху и, наверное, удивленно оглядывался вокруг себя, видя лишь зачехленную белыми холстинами пустынную гостиную, длинный полированный стол, забывший гостей, грузные люстры, похожие на церковные паникадила, старинную лепнину потолка, отражающуюся в дубовых паркетах. Все вроде бы было его, наследственное, уконопаченное, но и чужое, не приставало к его телу, не встраивалось в гнездо, где бы уютно жилось и сладко просыпалось. Это был дом отца, сталинского генерала Фарафонова, а новые русские устраивают быт совсем по-другому. В нынешних богатых домах пахнет драгметаллами и «зеленью», но не пылью, старостью и жареной трескою...
– Как она умерла? – спросил я, надеясь из словесного мусора выудить что-то о себе. Мне казалось странным, что я все еще на свободе и каким-то боком не влип в жуткую историю... Меня все считают независимым, человеком дерзкого вольного полета, этаким соколенком. И никто не знает, что я – жалкий, мерзкий трус, я все время боюсь угодить в историю и потому не вылезаю из неприятностей: не одно, так другое...
– Кто знает... Ее видели с негром. Видели, как входила с ним в квартиру. Сейчас этого ниггера ищут, а они все черные, аж сыние, и все на одно лицо. Паша, я тебя понимаю... Она же была с заводной пружиной... Бывало, в постели дрожит, как струна, аж звенит. Руки взденет... Ну, думаю, вскрикнет и улетит... Богиня, Нефертити, Венера... Ах, да что я болтаю. Видит Бог, Марфинька тебя действительно любила, была без ума. Такую жену упустил. А негр, что негр... Это так, от стресса, для прочистки кишочек... Нет, не могу говорить, старичок, сейчас заплачу. Лежала-то в гробу красивая, как ангелочек. Ну, прямо живая... Але, Хромушин, ты куда пропал? – И Фарафонов действительно разрыдался, противно как-то, гулко скашливая, прочищая от мокрети горло. И тут я снова, в который уже раз, возненавидел его...
Слава богу, опасения мои оказались напрасны. Мир еще не совсем сошел с ума, чтобы всех хватать прямо на улице по первому подозрению (рожа не понравилась) и тащить сразу в застенок на пытки. Крохотная цепь сбоев, которую.я сочинил в лихорадочном уме, отчего-то не замкнулась на моей особе, и я, вроде бы главное связующее звено в ней, незаметно выпал. А могла бы, ой могла... По воле мелких спотычек и ничтожных намеков туманное подозрение дознавателей разрослось бы в неколебимую уверенность, когда бы и я сам вдруг поверил, что виновен, да, виновен и совершил чудовищную мерзость. Тайный чувственный помысел, сжигавший мое сердце, как раскаленный угль, он каким-то неисповедимым образом, без моего прямого участия, материализовался, как случается в дешевых голливудских сериалах... Взял кухонный нож, спрятал под плащом, поехал и убил... А почему нет? Иначе дальнейшая жизнь – в наказание... Но оказалось, что в смерти Марфиньки виновны все, кроме меня. Нашелся или нет зловещий африканец, никто не известил, и Марфинька легко ушла из общей памяти, как и не была; она, будто крохотный картофельный клубенек, не вызрев и не оплодившись вновь, погрузилась невозвратно в земляные глубины, не взваливая на чужие плечи забот. Но с собою она уволокла и меня, вместе с нею я нынче блуждаю по теснинам ада и не знаю, выберусь ли когда под солнце. Воистину, люди живы, пока о них помнят.
Как все выборочно в мире, настолько причудливо, что простому уму даже не отыскать логики в том многоголосом поминанье, что затеивают порою вокруг погибшего человека, как по команде, и тогда понимаешь, насколько кичлива и продажна вся пресса... Вдруг столько стенаний со всех сторон, в какие только трубы не дудят, столько зловещих предположений, которые через минуту отвергаются, столько неискренних слез, клятв и проклятий по неведомым адресатам... И, словно по заказу, волнения затихают, в один день сходят на нет, в газетах штиль и полнейшее умолчание, и несчастного героя так же напрочь позабывают, как и простого смертного, будто закатывают в бетон забвения...
Князь тьмы подъяремную паству свою не выпускает из-под надзора даже в дни печали, боится, наверное, что в какой-то миг скотинка может отлучиться от пастуха и позабыть о его властной силе. Слава богу, что по смерти Марфинька не угодила под эти дьявольские фанфары, под любопытный, раздевающий до печенок, оскверняющий телевизионный глаз.
Фарафонов больше не звонил. Он поставил на мне крест, не найдя, наверное, для себя выгоды: я не помогал ему вытаптывать тропинки во Дворец, наискивать тайные ходы. А от зряшного, никудышного человека, закопавшего золотые яйца в погребицу, можно заполучить лишь душевную незамирающую смуту и лень. Да и то: от покойного Чехова, которого всюду чтили, от его записных книжек было куда больше прибытку. Отраженная мировая слава Чехонте хоть каким-то крохотным лучиком упадала и на членкора Фарафонова и окрашивала его в солнечные победительные тона. От чахотки Чехова, от его вселенской тоски охраняла Фарафонова золотая пыль, отслаивающаяся от миллионов изданных книг писателя-душеведа. Хотя, наверное, и не вполне, да-с, иначе зачем бы порою прилетать Фарафонову ко мне, подобно летучей мыши, настигающей полночного майского жука, и прятаться меж пыльных книжных развалов, придавливая серой головою подшивку «Нашего современника»...