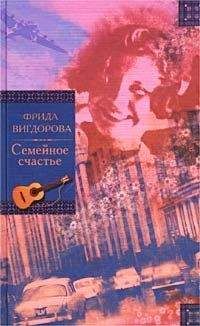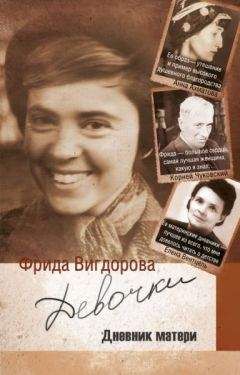— Глупости все это, глупая, черная ерунда, — в тоске говорит Саша.
— Откуда ты можешь знать? А в родильном доме на Соколе всем мальчишкам, что родились, смерть вспрыснули. Это тоже, скажешь, ерунда? И помалкивай ты за ради Христа перед девчонками.
— Когда я буду учительницей, — говорит Аня, — я никогда не буду врать детям! Нет, я всегда буду говорить им правду, о чем бы они ни спросили!
Она отодвигает тетради. Катя, застыв с красным карандашом в руках, не мигая глядит на сестру.
— Я так буду ребят воспитывать, — говорит Аня, — чтобы они ничего не боялись! Чтоб никого не боялись! Что своего добивались!
На столе, покрытом зеленым сукном, стоит графин. И стакан… За столом сидят доктор Темкин, доктор Федоровская, доктор Аверин. Он председательствует, а сестра Левашова ведет протокол.
На повестке дня — состояние политмассовой работы в третьем хирургическом отделении. С докладом выступает старшая сестра Алевтина Федоровна Прохорова. Да, она уже не ночная, она старшая.
Саша сидит почти в углу небольшого зала, в котором обычно устраиваются собрания. Рядом окно, за окном черный сентябрьский вечер. Саша смотрит на Прохорову. У нее белое, плоское как блин, непреклонное, непоколебимое лицо. Оно, пожалуй, вдохновенное, это лицо, глаза блестят, и рука поднята.
— Мы потеряли бдительность, рядом с нами орудовал враг, а мы его не разглядели. А разглядеть при бдительности было нетрудно. Доктор Королев унижал все наше, все советское. Он жил с оглядкой на заграницу. Он говорил, что в Копенгагене больницы лучше, чем в Москве. Все это слышали. А кто дал ему отпор?
Прохорова делает паузу. Из глубины зала раздается чей-то голос:
— Только вы, Алевтина Федоровна.
— Я не о себе говорю. Я говорю про весь наш коллектив — мы были недостаточно бдительны. Операционная сестра Ветлугина сможет подтвердить, что Королев в некоторых, нужных для него случаях давал ей не правильные указания. Например, в конце этого года во время резекции легкого…
За окном урчит гром, вспыхивают молнии — беснуется поздняя осенняя гроза.
— Я предпочел бы обойтись без этих дешевых световых эффектов, — говорит за спиной Саши молодой доктор Коля Великанов.
Правда. Как в плохой пьесе: глухой гром, стремительные голубые молнии. В зале полутемно, в бедной люстре под потолком из шести лампочек горят только три. Ветер вдруг изо всех сил толкает окно. Оно распахивается, повалив на пол цветочные горшки с бегонией и кактуса ми. Высокий лимон в маленьком, не но брался было рухнуть, покачнулся, но раздумал и остался на месте. Саша хочет закрыть окно и долго не может справиться: рамы рвутся у нее из рук. Встает Коля Великанов и на своих длинных ногах идет на помощь. Он обуздал окно, но уронил горшок с лимоном — на подоконнике и на полу у окна целое побоище.
— Так плохо дело, что хоть пляши, — говорит он шепотом.
Да, плохо. Так плохо, что хоть пляши.
— На трибуну должны выйти товарищи и прямо, честно признаться в своих ошибках, признаться в своей слепоте и попустительстве. Сестра Поливанова всегда потакала Королеву, пускай она перед всем коллективом скажет без утайки, как она помогала ему…
За окном творится нечто несусветное. Дождь хлещет изо всех сил. Переведет дух и снова потоками обрушивается на землю. Кажется, он хлещет по всей земле.
— Господи, — с отчаянием говорит доктор Филиппова, — а я без калош и без плаща. Только-только вылезла из гриппа.
Перед Сашей сидит доктор Ткач. Отличный хирург. Ему лет шестьдесят, наверно. Втянув голову в плечи, он слушает Прохорову.
— А, вот:
— Доктор Ткач, а вы что скажете? Вы работали рядом с Королевым, почему вы не сигнализировали?
Что мне делать? — думает Саша и смотрит в окно, за которым буйствуют световые и шумовые эффекты. Что мне делать? Лучше всего промолчать. Но промолчать не дадут. Вызовут к трибуне и потребуют: говори. Надо придумать, что сказать. Думай не думай, тут выбора нет… И будет ночь. В дверь позвонят, и войдут двое военных, тех самых, что она видела у Королева. Аня проснется, сядет на кровати, взглянет с ужасом. А они скинут на пол книги, выбросят из шкафа белье. Нет, ты этого не увидишь, тебя уведут. И Катька будет цепляться за твое платье и реветь в голос, ничего не понимая. Так. Что же она скажет? Что бы она ни сказала, Дмитрий Иванович ее не осудит. Он поймет, что она делает это ради детей. Но она, как она будет жить после этого? "Говори, что знаешь, делай, что должно, а там будь что будет". А что должно?
Говори, что знаешь…
Тяжелой поступью идет через зал доктор Ткач. Он идет, шумно и страшно задыхаясь, как тот старик из Сухуми. Следом идет тишина: все знают, что Королев спас его внучку. Случай был почти безнадежный. У Ткача дрожали руки, он не мог оперировать. Дмитрий Иванович взял нож у него из рук и сменил Бориса Львовича у операционного стола. Девочка выжила. Доктор Ткач долго стоит, не говоря ни слова.
— Мы ждем. Вы что, онемели? — спрашивает Прохорова.
— Я уверен… что суд разберется… и вынесет справедливый приговор… Надеюсь, что…
— Это не ответ, а уловка! — повышает голос Прохорова.
— Вы заодно с врагом! — кричит Ветлугина.
Как Дмитрий Иванович говорил о Прохоровой? "Она любит начальство и всегда лает в указанном направлении". Но о сестре Ветлугиной он говорил иначе: "Когда на операции нет моего друга Марии Петровны, я как без рук. Быстрота, находчивость, четкость — ну, прелесть!"
— Вы заодно с врагом! — повторяет Ветлугина. У нее красные, воспаленные веки, и губы пересохли.
— Я надеюсь… что суд… разберется, — говорит доктор Ткач.
Слово найдено, — в тоске думает Саша, — "суд разберется". Я надеюсь, что суд разберется. Она скажет: "Я согласна с Борисом Львовичем. Мы должны подождать, суд разберется". Ах, как бы хорошо вдруг открыть глаза и понять, что все это был сон. А если уйти? Вот встать и уйти, и все.
— Даже зонтика не захватила, — говорит доктор Филиппова. — Дождь прямо как из ведра.
Тяжело опираясь на палку, встает Аверин. Он был с Королевым на фронте. Он знает его, как себя. "Мы с Авериным пуд соли съели", — говорил Дмитрий Иванович.
Сейчас Аверин скажет что-нибудь такое, от чего все придут в себя. Очнутся. Вот сейчас он скажет: "Мы вместе воевали…"
— Я должен признать, что виноват перед своими товарищами, — говорит Аверин. — Это я вызвал Королева в нашу больницу. Я верил ему, как другу, а он оказался врагом…
Как бы хорошо проснуться, — в тоске думает Саша. Как бы хорошо проснуться и понять, что ничего этого не было. Вчера больная из третьей палаты сказала ей:
— Что вы такая скучная? Давно вижу: горюешь. А тыне горюй. Помни: это все облака… Вспомни, что было десять лет назад, — ведь прошло? И пять лет назад, и два года… Прошло. Проплыло. Говорю тебе: облака…
Да, и это пройдет. Проплывет, забудется. Облака… Нет, не забудется, не растает…
— Сестра Поливанова! Мы ждем, мы хотим услышать, что вы скажете.
Что она скажет? Что она скажет? Что бы она ни сказала, Дмитрий Иванович ее не осудит, простит. "Суд разберется", — скажет она, больше ей ничего не остается…
Саша встает. Зачем-то проводит рукой по грязному подоконнику. Поднимает голову, встречается глазами с Авериным, с Прохоровой и говорит:
— Он не виноват. Я работала с ним и видела, как он с больными, как он с людьми. Я знаю: он ни в чем не виноват…
— Что ты делаешь, Саша?
— Как видишь: укладываю чемодан.
— Что это значит?
— Это значит, что я уезжаю. Меня уволили.
— То есть как уволили?
— Обыкновенно: взяли да и уволили. Предложили по
Дать заявление об уходе. Я, конечно, не подала. Зачем мне подавать? Я ни в чем не виновата. Ну вот. Тогда взяли и уволили.
Он не стал спрашивать, почему она ничего ему об этом не сказала. Он только спросил:
— Ну хорошо, все это очень горько, не спорю. Но причем же здесь чемодан?
— А при том, что в Москве мне теперь работы не найти. А раз так — я нашла ее на периферии. Мне помог Андрей Николаевич. Списался с одним своим товарищем. Он фельдшер на селе, и ему нужна медсестра. Я к нему и еду. Белоруссия. Село Ручьевка… Вот таким путем…
— Ты с ума сошла! — сказал он твердо. — Ты просто сошла с ума. Тебе помог Андрей Николаевич! Прекрасно. А я, дети — как ты собираешься поступить с нами?
— Очень просто. Дети пока будут здесь, с Анисьей Матвеевной. А Федю я возьму с собой, раз она не хочет, чтоб он оставался. Ну, а ты… Ты, я надеюсь, без меня не пропадешь…
— Саша, позволь. Нельзя же так… Это безумие, это глупость, ребячество!
Саша чуть отодвинула чемодан, положила руки на колени. Лицо ее не выражало ничего, кроме глубокой усталости.
— Ты сейчас сказал, Митя, что мы не дети. Это верно. И моя ошибка только в том, что я сразу не дала тебе свободы… Это так, кажется, называется: свобода. Разве дело в том, что мы продолжаем жить под одной крышей? Ты, наверно, делаешь это для детей. А разве им хорошо сейчас? Ты сам видишь, что тебе объяснять. Так вот, теперь ты свободен. А потом… Потом я заберу девочек.