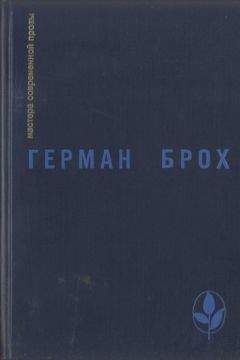и он, в чью душу струился свет этого символом ставшего Я, этой красоты, этой игры, этого свершения, свет, с неумолимой непреложностью струившийся ему навстречу от самых глубинных и самых внешних пределов мира, от самых глубинных и самых внешних границ ночи, так что он нес в себе, укрывал в себе все это действо и одновременно был им охвачен, ибо прияло его пространство непреложности, пограничное пространство его Я, приял пограничный предел мира, символ его беспредельности, прияло пространство игры, пространство запредельной близи, пространство Красоты, пространство символа, которое во всякой точке своей пребывает под вопросом и однако же, пресекая все вопросы, застывает, цепенеет в оцепенелой беспредельности, а сам он, оцепенелый, задушенный оцепенением, он чувствовал, постигал, что ни одно из этих пространств не превышает пределов прозрачного купола, воздвигнутого между небом и низом, что все они расположены еще в промежуточном царстве, где бесконечность еще не властна, они, пожалуй что, уже граничат с бесконечностью, но сама эта граница пребывает еще в царстве земного: о владенья Красоты, еще принадлежащие земному, о эта земная, еще земная бесконечность! Она-то и прияла его, охватила его; он объят был пространством земного дыхания, но изъят из пространства сфер, пространства истинного дыхания. И, чувствуя эту объятость, угадывая в ней первопричину всякого оцепенения, первопричину всякой оцепенелой бездыханности, он чувствовал вокруг взрывную мощь, которая противодействовала, не давала сомкнуться объятию, чувствовал непреложность, неизбежность взрыва, чувствовал ее до самой глубины своего Я, до самой глубины души, до самой глубины своего дыхания и недыхания; он чуял этот взрыв и знал о нем, чуя и зная, как зреет он в нем и в мире, как таится в нем и одновременно объемлет его, он просто физически чуял его как облеченное плотью, подстерегающее нечто, которое, сдавливая горло ему и целокупности зримо-незримого мира, отнимало дыхание, а все же колыхалось внутри и вокруг него бесовским соблазном, накатывая на него, и вскипая в нем, и смыкаясь над ним, воплощенно-развоплощенное нечто, соблазн уничтожения и всеуничтожения, разгрома и всеразгрома, соблазн отдать себя на потребу, соблазн поднять себя на смех, уничтожить себя, удушливый, сдавливающий горло, пронизывающий ознобом и все же сулящий освобождение, так чувствовал он затаенную, напряженную готовность к взрыву, близость неисповедимо-древней беспамятности, вот так он это чуял, так знал, так желал этого в поистине первобытном своем бунте против оцепенелости, против данности, против жесткого кокона ограниченного пространства, против несогласия и разлада, против все еще сущего, но вместе и против печали, которая глубинно присуща всякой игре и всякой Красоте, о, это был соблазн могучего первородного вожделенья, это было могучее страстное нетерпение, жажда взорвать все и вся, взорвать мир и взорвать свое Я, сотрясаемое жаждой еще более огромного, еще более древнего знания, о, это было угадывание, учуивание, узнавание и, сверх того, даже познание, для него это стало познанием и самопознанием, ибо из приявшего его пространства глубочайшего предзнания прихлынуло к нему последнее постиженье, и, точно озаренный молнией, понял он, что распад Красоты это попросту голый смех, а смех предрешенный распад Красоты, что смех изначально сопутствует Красоте и навеки с нею неразлучен, улыбкою переливается он в ней у нереальных пределов запредельной дали, однако ж затем громкими раскатами исторгается из нее у поворотной черты, исторгается как грохочущее, громовое уничтоженье времен, как бесовская сила всеистребленья, смех, соперник мировой Красоты, отчаянный смех взамен утраченной уверенности познанья, смех, означающий конец безуспешного бегства в Красоту, безуспешной игры в Красоту; о печаль над печалью, игра с игрою, упоенье тщетой упоенья, печаль вдвойне, игра вдвойне, упоенье вдвойне, и всегда смех есть бегство из убежища, отринувшее игру, отринувшее миры, отринувшее познанье, распад мировой печали, щекочущая людские глотки жажда бесконечности, распад оцепенелого пространства Красоты, зияющая бездна, в безымянной безъязыкости коей гибнет даже Ничто, обезумевшее от немоты, обезумевшее от смеха, и тоже божественное;
ибо смех —
первородное право богов и людей,
в изначальной дали времен порожден он богом,
познавшим себя самого,
порожден его предзнанием, как немотствующее предвестье,
предзнанием о собственной уничтожимости,
об уничтожимости всего сотворенного,
всего творения, в коем он,
соучастник его и частица,
длит свое бытие и, возрастая
от познания мира к самопознанью и превыше его,
обращается вспять к предзнанию —
прародителю смеха;
о навек неразрывные
рожденье богов и людей, смерть богов и людей,
их начало и их конец,
о, этим знаньем о небожественности богов порождается смех,
этим общим для бога и человека знаньем,
он рождается в зыбкой, неспокойно-прозрачной
зоне общности,
в том вместилище демонов, что искони существует
между сферами запредельного и здешнего,
дабы в этой сумеречно-дремотной вотчине демонов
снова и снова встречались бог с человеком,
и если смех затевать средь богов предназначено Зевсу,
то порождать их смех — удел человека,
точно так же
как в беспрестанном круговороте потешно-печального
взаимопознанья человеческий смех
порождается ужимками зверя,
точно так же
как открывают себя бог в человеке и человек в звере,
так что зверь возвышается чрез человека до бога,
бог же чрез зверя возвращается в человека,
бог с человеком в печали слиянны — и обуянны смехом,
ибо охвачены оба игрою
первозданно-внезапного смешенья всех сфер,
внезапного обнаруженья первозданного родства и соседства,
игрою, чей устав искони предначертан,
великой игрою хаоса сфер,
божественною игрою,
уничтожающей красоту и порядок,
зловеще перемешивающей воедино
божественность творенья и тварность
и со смехом их предающей
случаю на потребу,—
о игра, о свирепый гнев
всеведущей матери-богини,
о дерзновенная потеха
бога, отринувшего и презревшего познанье,
залившегося хохотом, как слезами,
ибо такая потеха,
такое смешение сфер —
без малейшего грана познанья, иль вопрошенья,
иль какого угодно свершенья —
есть самоуничтоженье, и только,
есть преданье себя на потребу
случаю, времени, мигу,
нежданно-негаданному, но и провиденному,
есть преданье себя на потребу
вожделенному безрассудству предзнания
и, коль пошло уж на то,—
смерти;
потеха, идущая из глубин неисповедимости,
потеха столь огромная, что
из потешного разгрома всех остатков законности,
из потешного развала порядков, разрушенья границ
и мостов,
из развала прекрасных и стылых сгустков пространства,
из руин пространства Красоты
воспоследует последний и непреложный
переворот,
и, опрокинувшись в бездну
без познания, без языка, без мостов и границ,
безымянную, беспредельную,
перемешаются все отличья,
перемешается предзнание божественное с предзнанием
человеческим,
распадется общее их творенье, но взамен,
оттого что все, опрокинувшись, перевернется,
к нам приблизится даль эонов,
вековое преддверье творенья,
беспамятный образ его, недоступный
даже божественному предзнанию,
приблизятся в изначальной неразличимости,
в изначальной немыслимости и совокупности
реальное и нереальное,
живое и неживое,
осмысленное и отвратительное,
приблизится невыразимая страна Нигде,
страна невыразимая и невообразимая,
где звезды струятся по лону вод,
где нет таких противоположностей,
что не слились бы до нерасторжимости,
и уморительно-причудлива эта смесь развала и сплава,
где случайны и сопряженье и взаимопорожденье,
уморительно-причудливы в своей неразличимости
случайные сгустки теченья времен,
стада богов, и людей, и зверей, и растений, и звезд,
кавардак и клубок бытия;
и нагрянет царство Нигде,
мирового хаоса хохот,
будто и не было вовсе клятвы творенья,
клятвы, связавшей единым долгом
бога и человека,
долгом познания, долгом
созидания и порядка,
долгом помощи — этим долгом долга;
о, это хохот предательства,
хохот бездумной беспутной измены,
хохот недоброй свободы, предшествующей творенью,—
вот оно, вот
недоброе наследье, затаившее смех,
ядро мирового раскола,
неискоренимый зародыш в чреве любого творенья
смех его брезжит уже в том улыбчиво-невинном
коварстве,
с коим всякая тварь нас чарует
изначальной своей грацией,
брезжит в той изначально-безжалостной уверенности,
с коей даже само уродство
преображается игрой Красоты,
отодвигаясь в недоступно-стылую даль,
стылую и чуждую состраданья,
брезжит еще и за этой далью,
брезжит за совокупностью всех далей, здешних
и запредельных,
брезжит в немыслимо-беспредельном пределе,
зловещей ухмылкой скользя по его поверхности,
на которую, лишь достигнута будет граница времен,
опрокидывается Красота,
обнажая сокровеннейшее коварство
потаенной своей изнанки,
этот врожденный ей и ею вновь и вновь порождаемый
невоплотимо-несотворенный хаос,
этот порожденный ею, исторгшийся из нее,
хлынувший из нее
хохот,
язык довселенского хаоса, —
ибо не изменилось ничто, о, ничто; но, застыло и немо, глубоко погруженное в купол неба, подстерегало чреватое раскатами смеха клятвопреступление, но в неприкосновенности звездного хора, насыщая землю молчаньем, земным молчаньем напитан, в сияющем величье продолжавшегося существования мира, в зримом, равно как и в незримом, и в красоте, изливавшейся песнью, крылся, дрожа в напряженье, готовый взорваться, насильственный, как от щекотки, душащий смех, грозою смех подстерегал, неизменный спутник красоты, подстерегал чреватый взрывом соблазн внутри и вовне, он обнимал его и внутри его коренился, выраженье кошмара, посредник кошмара, язык дотварного, язык непреодолимости, для которой никогда не существовало предмета преодоленья, безымянно пространство, в котором она обитала, безымянны звезды, над нею стоявшие, безымянно лишенное связей и выраженья одиночество в сферосмесительном пространстве языка, в пространстве неизбежного распада всякой красоты, и при виде красоты, но уже приятый новым пространством, он, охваченный дрожью ужаса вслед за трепетавшим в ужасе пространством, вдруг постиг, что реальность более уже недоступна, что назад пути нет и невозможно уже обновленье, что остался лишь смех, разрушающий реальность, что, больше того, обнаженное смехом состояние мира вообще уже не имело почти никакой настоящей реальности, упразднен был ответ, упразднен долг познания и отменена великая надежда на нетщетность этого долга, и не потому, что тщетна она, а потому, что она излишня в пространстве цепенеющей красоты, в пространстве ее развала, в пространстве смеха; злее и коварней толпного сна этот смех, никто не смеется во сне, будь то в приступе боли, будь то в злорадной нарастающей смертной жути, которую столь привлекательной представляет лукавая игра красоты, о, ничто так не близко злорадству, ничего нет ему ближе божества, ниспадающего в призрачную человечность, или человека, воспадающего в призрачную божественность, оба они вовлекаемы в злорадство, в беду, в дотварное зверство, оба играют с уничтоженьем, с демоническим самоуничтоженьем, от которого их отделяет всего лишь мимолетная пауза случая, ибо в безостановочном токе времени в каждый миг возможно всякое: оба они смеются неизвестности, отданной на волю случая, смеются суетливо-уверенному мельтешенью средь неуверенности, оба они в плену смеха, ликующего от той легкости, с какою нарушен долг и нарушена клятва, случай щекочет их, случай их будоражит, так смеются они упраздненью божественного, равно и человеческого через ненужность познанья, смеются чреватому бедой злорадству красоты, смеются реальности всего нереального, ликуя оттого, что нарушен завет творенья, беснуясь в восторге от удавшегося деянья, обманчивого злодеянья и недеянья, плода нарушенной клятвы. И он понял: те трое, что там ковыляли внизу, были свидетели клятвопреступленья.