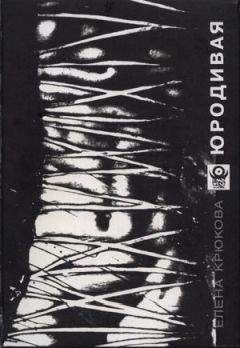— Получи! Пока я здесь — буду орать, биться, сражаться! Но умертвить его и съесть его я вам не дам!
Медведи заревели утробно. Дородная дама, с вываливающимися из декольте грудями, с ниткой отборного жемчуга, спускающегося на отвислый живот, закутанный в черный бархат, со свинячьим пятачком вместо носа, хрюкнула и стала повизгивать недовольно и вызывающе. Скандал за столом рос и ширился. Человек на блюде встал на четвереньки. Его маленькое лицо выражало глубочайшее отчаяние и вместе с тем покорность судьбе. И надежду. Он с мольбой и надеждой смотрел на меня.
«Помоги мне», - кричали его искристые крошечные глаза. Они блестели. В них стояли слезы.
А может, он плакал от нарезанных колец репчатого лука, лежащих рядом с его нагим телом на красных сердцах помидорных срезов.
И тут вошел Ты.
Дверь распахнулась, и вошел Ты, радостно и сурово озирая непотребное пиршество, ища глазами брачующихся — ведь, как-никак, а это была свадьба, и в сражении за жизнь человека, поданного к столу наряду со спаржей и артишоками, мы забыли, что торжество ярилось по поводу бракосочетания.
— Где жених и невеста? — грозно возгласил Ты.
Молчание. Оборотни и вурдалаки растерянно переглядывались. Спрятались, должно быть, эти шаловливые влюбленные. Сидят где-нибудь под столом. Целуются. Обнимаются. Не могут дождаться, когда вся тягомотина закончится. Жених под столом задрал невесте юбку, пытается рукою досягнуть туда, откуда исходит тепло, жизнь и свет. И тьма оттуда исходит тоже. Только как узнать… как различить, когда тьма, а когда свет, и что в бессмертной любви важнее — свет или тьма. У тьмы много глаз. Она зряча. Она видит все.
Ты обвел всех сияющими, лучистыми глазами, воздел руки и воскричал:
— Вот они! Вот сидят жених и невеста! Радуйтесь им! Радуйте их любовью своею!
Взоры всех чудовищ обратились на возвышение перед одним из столов, на котором стояли, тесно прильнув друг к другу, два юных существа — мальчик-подросток и молоденькая девушка. Девочка что-то сбивчиво шептала, припав губами к уху отрока, отчего шевелились его легкие кудри. Мальчик обвивал ее рукой за плечи, стараясь незаметно потрогать жаждущими пальцами грудь, нежный сосок, выпирающий под грубой холщовою тканью. На головах детей топорщились венки из желтых одуванчиков и садовых ромашек, шеи их украшали бусы из сухих рябиновых ягод и просверленных раковин речных беззубок. Они боялись. Они жались тесней друг к дружке. За их здоровье пили кровь. За их счастье хотели съесть человека. Они не понимали, что с ними происходит. Зачем они тут. Зачем вся эта чудовищная, нелепая свадьба. Кто их родичи на этой свадьбе, кто родня их, от кого они сами родились и произошли.
Ты стоял и глядел на пир, на громадную гору гадкого пира.
И лицо Твое светлело, наливалось светом с каждым мигом.
И земля ушла у меня из-под ног.
— Исса! — завопила я. — Исса-а-а-а-а-а…
…а-а-а-а-а-а-а!.. — голос Ксении захлебнулся, нить голоса порвалась, и возник проем тишины. В тишине пролетали внизу белые и песчаные лопаты материков. Суша теряла свои очертания и объемы. Наползало черное, страшное и пустое небо, проколотое иглами звезд, и через иголки входили в сердце отравные и безумные соки новых снов.
— Смотри, дура, какая маленькая Земля, — прошептал Горбун, поворачивая переставшее распяливать рот в бешеном крике лицо Ксении к круглому окошку ракеты. — Какая маленькая жизнь.
Она глядела вниз. Проплывали синие шарфы и покрывала океанов. Она узнавала их. Она видела рельеф океанского дна, впадины и подводные горы, которые когда-то были обитаемыми и торчали над населенной сушей, под густо-лиловым первобытным небом. Жилы бьющихся рек изрезали высохшие руки живой земной плоти, и ни дожди, ни снега не могли влить в умирающие сосуды новые силы и волю жить. Земля умирала; и земля хотела жить все равно, вопреки всему, что ей напророчили. Ты же пророчица, Ксения. Ты же знаешь будущее. Вон Горбун, он держит тебя за шкирку, он подталкивает тебя ногой в зад. Расколись. Выдай, что там, в будущем. Что нас ждет. Что грядет. Не хочешь? Ах ты тварь. Вот тебе. Гляди. Гляди послушно вниз, на уплывающий, ускользающий мир. Не правда ли, как он красив? И я, Горбун, в нем красив тоже. Захочу — и ты, пророчица, выйдешь за меня замуж. Захочу — и выкину тебя за борт, в открытое пространство, где воздуха ни капли, где кровь твоя закипит сразу же, в один миг. И станешь ты пищей на блюде у Бога. Его варевом. Его жарким. И вместо тебя я буду пророчить. И к моим стопам припадут люди. Но, прежде чем тебя угробить, я должен у тебя всему научиться. Всему. Без остатка. Я жадный ученик. И понятливый. Я способный. Ты, стерва!.. Показывай все, что умеешь.
— Какие поля… какие изумрудные поля, — Ксения, стоя на коленях перед круглым окном, удерживаемая за шею скрюченной рукой Горбуна, морщилась от боли, — какие поля бескрайние… это Царство Мертвых…
— Что ты мелешь, дура, — выдавил сквозь стиснутые зубы Горбун, — это же живая зеленая Земля, ее поля, ее синие реки, моря, где рыбы навалом… Говори… говори, что видишь в прошлом, в настоящем… и в будущем!.. куда мы летим… что с нами со всеми будет вскорости… только не ври!.. Не привирай!.. Расправа с тобой будет быстрой… После того, что ты нам показала на плато, я понял… что с тобой, в случае чего, кончать надо быстро… чтоб комар носу не подточил…
Земля была маленькой. Очень маленькой. Желтизна и золото сменялись синью и изумрудом. Красные пески, пропитанные кровью — белым колотым сахаром льдов, вуалью, фатой беспредельных снегов. Дымили, чадили громадные города, и гуще и мощнее всех дым поднимался над Армагеддоном, пульсирующим багровыми и черно-красными сполохами в земной ночи. Ракета забирала выше и выше, и скоро от городов остались лишь алые, тускло горящие пятна, похожие на папиросные огни, чуть видимые глазу. Черепахи островов проползали и тонули в мрачной синеве глубин. Горные цепи свешивались вниз, по черному бархату неба, как ожерелья с шеи высохшей старой красавицы. Земля улетала. Она становилась все меньше. Она становилась оранжевым светящимся апельсином, кроваво-красным гранатом. Она сделалась маленьким абрикосом, и ее можно было раскусить, и она была сладкая на вкус, с горькой косточкой внутри. И вот она уже стала сизой, сине-лиловой сливиной, и облака шли по ней, как по сливе белый налет, сходный с изморозью, с рисунком на крыльях голубя, и вот она уже — маленькая вишня, темная, налитая кровью, раздави языком — брызнет; и вот она уже — ягода рябины, и горит в черноте пустоты, освещенная безумием Солнца, и вот она уже — ягода земляники, и она исчезает в черном туесе, она тает под языком, она остается только любимым с детства запахом — земли, перегноя, палых листьев, ягод, земляники, алой кладбищенской земляники, которую есть нельзя, но она крупнее всех и слаще всех, слаще ее нет, и срываешь ее и ешь, и пусть она растет на могилах, ведь и мертвые радуются, когда живые приходят к ним есть землянику.
— Милая Земля, — прошептала Ксения, и Горбун больнее ухватил ее за загривок, — бедная Земля… Я лечу вокруг тебя… Я удаляюсь от тебя…
— Что бормочешь?! — взвопил Горбун. — Я тебе что сказал! Говори, что будет! Не морочь нам голову снова! Надменный!.. если она начнет артачиться — ну, ты знаешь способ…
Надменный, скрипя сапогами, подошел к Ксении. Взял ее за подбородок. Поднял, вздернул к себе, вверх, ее лицо.
— Ну ты нам и дорого даешься, пророчица, — просипел он. — Хвост по полу волочится. Видела это?!
На наручниках, выдернутых им из кармана, внутри по ободу торчали острые стальные иглы.
— Эта игрушка для непослушных, — довольно усмехнулся он. — Нет в мире ничего невыносимей боли. Мы знаем, как ты можешь терпеть боль. Как ты можешь вызывать боль сама. Мы можем тебя опередить. Если мы наденем на тебя эту забавку, ты не снимешь ее уже никогда. И никто с тебя ее не снимет. Ты умрешь от боли. Раны от игл загноятся, пройдут сквозь кость. Распилить наручники нельзя. Можно только отпилить твои руки. Так что думай. Думай, дура безмозглая, прежде чем бормотать чепуху. Ты нам дело говори.
Они хотели правду. Ничего, кроме правды.
Что ж. Они ее получат.
Сполна.
— Мы улетаем навсегда, — сказала Ксения, и щеки ее порозовели. — Прощайтесь. Я так хочу. Я хочу увести вас от Земли. Вы — опасность для Земли. Самая большая. Я знаю это. Люди умели обматывать змей вокруг горла и петь им песни. Я не могла обмотать вас вокруг горла моего.
— Умрет ли Земля?! — завопил Горбун.
— Умрет. И вы умрете тоже. Но не своей смертью.
— Уж не ты ли будешь причиной?! — Горбун вопил как раненый слон. Откуда в его теле помещалось столько трубного крика? Он бил Ксении головой в живот. Он кусал ее грудь. Он запустил ногти ей в заголившееся плечо и расцарапал кожу, не зная, как сорвать зло, как утишить великанский страх, встающий из глубин его замученного тщедушного тельца, худосочной души.