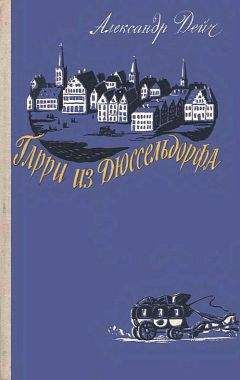За несколько лет до смерти:
Я прожил прекрасную жизнь. Ужасно умирание, а не смерть, если смерть вообще существует. Смерть – это, может быть, последний предрассудок.
О Геттингенском и Болонском университетах:
Оба университета отличаются один от другого тем простым обстоятельством, что в Болонье самые маленькие собаки и самые большие ученые, а в Геттингене, наоборот, самые маленькие ученые и самые большие собаки.
* * *
Жители Геттингена делятся на студентов, профессоров, филистеров и скотов, причем эти четыре сословия отнюдь не строго между собой разграничены.
* * *
Наибольшего он достиг в невежестве.
* * *
Некая девушка решила: «Это, должно быть, очень богатый господин, раз он так безобразен». Публика рассуждает так же: «Это, должно быть, очень ученый человек, раз он такой скучный». Отсюда успех многих немцев в Париже.
* * *
Ни один человек не думает; только от времени до времени ему непроизвольно впадает что-либо в голову, и это он называет мыслями и чередование этого – мышлением.
* * *
Быть нужно либо ремесленником, либо филологом, – ведь штаны всегда будут нужны людям и всегда будут существовать школьники, которым необходимо склонять и спрягать.
* * *
Один Якоб Гримм сделал для языкознания больше, чем вся ваша Французская академия со времен Ришелье. Его «Немецкая грамматика» – исполинское создание, поэтический собор, под сводами которого все германские племена, словно гигантские хоры, поднимают голоса, каждое на своем наречии. Якоб Гримм, быть может, продал душу черту, чтобы тот доставил ему материалы и был пособником в этом необъятном лингвистическом сооружении. В самом деле, человеческой жизни и человеческого терпения не могло хватить, чтобы собрать эти глыбы учености и чтобы скрепить их воедино цементом из сотен тысяч цитат.
Достойно удивления, что супруг Ксантиппы мог стать таким великим философом. Среди этаких дрязг – да еще думать! Но писать он не мог, это было невозможно: после Сократа не осталось ни одной книги.
* * *
Вольтер, услужливо носивший светильник впереди великих мира, этим же светильником освещал и их наготу.
* * *
Едкий смех Вольтера должен был прозвучать прежде, чем ударит топор Сансона [3] . Однако как этот топор, так и тот смех, по сути дела, ничего не доказали, а только что-то осуществили.
* * *
Руссо – звезда, смотрящая с высоты; он любит людей сверху.
* * *
О Гегеле:
Однажды в прекрасный звездный вечер стояли мы вдвоем у окна, и я, двадцатидвухлетний юнец, только что хорошо поужинавший и напившийся кофе, мечтательно говорил о звездах и назвал их обителью блаженных. Но учитель проворчал себе под нос: «Звезды, гм, гм! Звезды – только светящаяся сыпь на небе!» – «Ради Создателя! – воскликнул я. – Значит, там, наверху, нет блаженной обители, где бы после смерти нам воздавалось за добродетель?» Но он, неподвижно устремив на меня свои бесцветные глаза, резко ответил: «Вы хотите, стало быть, еще получить на чай за то, что ухаживали за больной матерью и не отравили родного брата?»
* * *
Когда однажды я возмутился положением «все действительное – разумно», он [4] странно улыбнулся и заметил: «Можно бы сказать также: все разумное должно быть действительным».
* * *
Наши философы не перестают жаловаться, что их не понимают. Лежа на смертном одре, Гегель сказал: «Только один меня понял», – но тотчас вслед за тем раздраженно добавил: «Да и тот меня тоже не понимал».
* * *
Иммануил Кант штурмовал небо, он перебил весь гарнизон, сам верховный владыка небес, не будучи доказан, плавает в своей крови; нет больше ни всеобъемлющего милосердия, ни отеческой любви, ни потустороннего воздаяния за посюстороннюю помощь, бессмертие души лежит при последнем издыхании – тут стоны, там храпение – и старый Лампе [5] в качестве удрученного зрителя стоит рядом, с зонтом под мышкой, и холодный пот и слезы струятся по его лицу. Тогда Иммануил Кант разжалобился и показал, что он не только великий философ, но и добрый человек; и он задумывается и полудобродушно-полуиронически говорит: «Старому Лампе нужен Бог, иначе бедняк не будет счастлив, – а человек должен быть счастлив на земле – так говорит практический разум, – так уж и быть – ну, пусть практический разум дает поруку в бытии Божьем».
* * *
О французском философе Кузене:
Он клевещет на себя, пытаясь уверить нас, что он заимствовал многое из философии Шеллинга и Гегеля. Я должен взять господина Кузена под защиту от этого самообвинения. Честное и благородное слово! Этот честнейший человек ни одной ничтожнейшей мелочи не украл из философии господ Шеллинга и Гегеля, и если он привез домой что-нибудь на память от них обоих, то это была исключительно их дружба. Но психология полна примерами таких ложных самообличений. Я встречал человека, который признавался, что, будучи за столом у короля, украл серебряную ложку, и, однако, все мы знали, что бедняга не имеет доступа ко двору и обвиняет себя в воровстве ложки лишь для того, чтобы уверить нас, будто был гостем во дворце.
* * *
Философы в своей борьбе против религии разрушили язычество. но тогда возникла новая религия – христианство. С последнею тоже будет скоро покончено, но тогда, верно, явится еще новая, и философам будет задана новая работа, и опять-таки она окажется бесплодной.
Французский народ – это кошка, которая, даже если ей случается свалиться с опаснейшей высоты, все же никогда не ломает себе шею, а, наоборот, каждый раз сразу же становится на ноги.
* * *
Французский язык в сущности беден, но французы умеют использовать все, что в нем имеется, в интересах разговорной речи, и поэтому они на деле богаты словом.
* * *
Мы, немцы, поклоняемся только девушке, и только ее воспевают наши поэты; у французов, наоборот, лишь замужняя женщина является предметом любви как в жизни, так и в искусстве.
* * *
Французы в состоянии еще с грехом пополам понять солнце, но никак не луну, и еще меньше – блаженные рыдания и меланхолически-восторженные трели соловьев...
* * *
Французы более уверены в обращении с людьми именно потому, что они положительны, а не мечтательны. Какой-нибудь мечтательный немец скорчит тебе в одно прекрасное утро мрачную физиономию, потому что ему приснилось, что ты его обидел или что его дедушка когда-то получил пинок ногой от твоего дедушки.
* * *
Французы – придворные актеры господа бога, превосходная труппа, и вся французская история кажется мне иногда большой комедией, представленной, однако, в бенефис человечества.
* * *
После получения известий об Июльской революции 1830 года во Франции:
То были солнечные лучи, завернутые в газетную бумагу.
* * *
Иногда мне кажется, что головы французов, совершенно как их кафе, сплошь увешаны внутри зеркалами, так что всякая идея, попадающая в их голову, отражается там бесчисленное множество раз: оптическое устройство, посредством которого самые ограниченные и бедненькие головы представляются обширными и блестящими. Эти лучезарные головы, так же как сверкающие кафе, обычно совершенно ослепляют бедных немцев, когда они впервые попадают в Париж.
* * *
Во Франции жажда нравиться столь велика, что всякий стремится быть приятным не только друзьям, но и врагам. Здесь вечно во что-то драпируются, чем-то красуются, и женщины из сил выбиваются, дабы перещеголять мужчин в кокетстве. Это им все-таки удается.
* * *
Во Франции нет атеистов, к Господу Богу не осталось уважения даже настолько, чтобы кто-нибудь утруждал себя его отрицанием.
* * *
Восславим французов! Они позаботились об удовлетворении двух величайших потребностей человеческого общества – о хорошей пище и о гражданском равенстве: в поварском искусстве и в деле свободы они достигли величайших успехов, и когда мы, как равноправные гости, соберемся на великом пиру примирения, в хорошем расположении духа, – ибо что может быть лучше общества равных за богатым столом? – то первый тост мы провозгласим за французов.
Еврейство – аристократия: единый Бог сотворил мир и правит им; все люди – его дети, но евреи – его любимцы, и их страна – его избранный удел. Он – монарх, евреи – его дворянство, и Палестина – экзархат божий.
Христианство – демократия: единый Бог, который все сотворил и всем управляет, но который всех людей любит равно и все страны равно охраняет. Это уже не национальный, а всемирный Бог.
* * *
Христианство возникает как утешение: те, кто в сей жизни насладился обильным счастьем, в будущей поплатятся за него несварением желудка; тех же, кто слишком мало ел, ждет впоследствии превосходнейший пиршественный стол; и ангелы будут поглаживать синяки от земных побоев. Те, кто здесь, на земле, пил чашу радости, расплатятся там, наверху, похмельем.