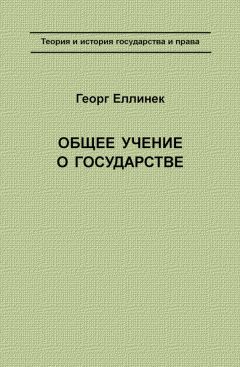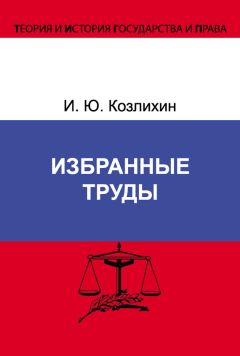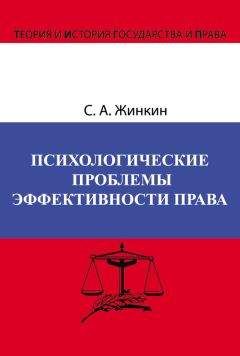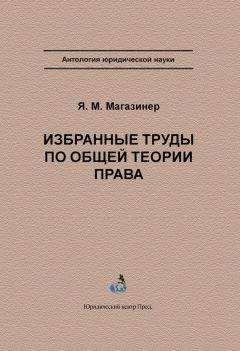Только в одном Грузенберг истинный эмигрант: в обостренном чувстве утерянной родины. Не случайно цитирует он слова Короленко из своего последнего с ним разговора, в котором речь зашла о начинавшейся тяге заграницу: "Горько им будет заграницей. Знаю по себе, по своей американской поездке. Сколько раз порывался бежать домой от душившей меня тоски. Даже в сибирской ссылке я чувствовал себя много счастливее, чем в Америке: всё свое. Тоска - и та какая-то другая, не такая сердитая, как там".
{247} Оскар Осипович Грузенберг скончался в Ницце 27 декабря 1940 года.
За месяц до кончины он писал :
"Я закончил второй том моих воспоминаний. По объему он приблизительно такой же, как первый ("Вчера"). По содержанию П. Н. Милюков нашел его глубже и интереснее первого...
Моя просьба к Вам: продать мои авторские права любому издательству для выпуска на английском, еврейском и русском языке" (Из письма от 27 ноября 1940 года, полученного в Нью-Йорке уже после смерти О. О. Грузенберга. Рукопись этих воспоминаний была после смерти Грузенберга передана С. В. Познеру, также вскоре умершему. Ее судьба мне неизвестна.).
В 1944 году в Нью-Йорке вышла изданная группой друзей Грузенберга книга "Очерки и речи", в которой переизданы статьи и речи, появившиеся в журналах "Право" и "Закон и Суд", а также стенограммы некоторых из его судебных речей. Работам Грузенберга предпосланы статьи о нем Е. М. Кулишера, И. А. Найдича, А. Я. Столкинда и И. Л. Цитрона. Особенно ценной является статья Е. М. Кулишера "О. О. Грузенберг как адвокат", в которой дан тонкий анализ приемов и достижений Грузенберга, как уголовного защитника.
Этот изданный нью-йоркскими друзьями сборник, хотя не вполне осуществляет пожелание Грузенберга, выраженное в его предсмертном письме, но всё же является данью памяти ушедшего, какой, к сожалению, еще не получили многие, ушедшие от нас в последние годы, заслуженные деятели русской общественности и культуры.
{248} Перечитывая полученные от Грузенберга за последние годы письма, я нахожу не мало брошенных мимоходом фраз, характеризующих и его стиль, и его отношение к событиям недавнего прошлого (Эти и другие выдержки из писем Грузенберга помещены в названной выше книге ".Очерки и речи", стр. 217-224.).
Неудивительно, что он со всей присущей ему резкостью осуждал "Мюнхен" и всякое соглашательство с диктаторами.
"Как хорошо, что Вы порвали с Европой, - пишет он мне в сентябре 1938 года. - Здесь всё охвачено параличом воли, которым отлично пользуется незанумерованный в списках о судимости убийца Гитлер. Когда (в Капитанской дочке) дядька Савельич убеждает Гринева поцеловать руку у "злодея" Пугачева, он все же добавляет: "поцелуй и плюнь!". А тут все целуют и никто не сплевывает"... И три месяца спустя: "Чувствую себя глубоко оскорбленным въездом Рибентропа в Париж бескровным победителем... Во Франции всё это кончится бедой: либо революцией, либо национальной прострацией".
Из того же письма: "Уверен, что недалека общеевропейская война. Что же касается России, то если не произойдет чудо, ее обкорнают до пределов старой Московии. Меня это удручает, так как России я обязан всем, начиная с ее языка".
Но когда ожидаемая с тревогой война началась, в Грузенберге проснулись его боевые инстинкты. "Вопреки унынию и маловерию иных, я не сомневаюсь в победе союзников, - пишет он в последнем полученном мною письме, - может быть, потому, что не хочу сомневаться... Война эта справедливая и честная. Пусть даже погибнет Европа, но нельзя безропотно идти в рабство".
Вот он, адвокат-боец! Раз дело справедливое, то нужно его принять и вести до конца, не падая духом и не {249} сомневаясь в успехе. Безнадежных дел не существует, и это дело будет выиграно, потому что оно должно быть выиграно.
Так Грузенберг до конца оставался прежним, душевно не сломленным. Но физическая инвалидность его угнетала и лишала охоты жить. За два года до смерти он рассказывает мне в письме о посещении нашего общего друга, 88-летнего Я. Л. Тейтеля (которому было суждено вскоре покинуть этот мир) : "Был у нас вчера Яков Львович. Надо надеяться, что он доживет до своего столетия. Дай ему Господь, а мне пусть скорей пошлет кончину безболезненную. Устал невыразимо и надоело... Но это я Вам по секрету".
А в январе 1941 года почтальон принес мне письмо от Грузенберга, которое показалось мне вестью из загробного мира. Оскар Осипович умер 27 декабря 1940 г. (В 1951 г. останки О. О. Грузенберга и его жены были перевезены в Израиль и преданы земле в Тель-Авиве.).
Но письма из Европы шли тогда медленно и в первых числах января 1941 года, уже после появления моего некролога в "Новом Русском Слове", я получил письмо, помеченное Грузенбергом 27 ноября 1940 года.
В этом длинном письме, написанном почерком тяжело больного человека и посвященном, главным образом, вопросу об издании его неопубликованных рукописей, есть следующие строки:
"Лично о себе ничего хорошего сказать не могу: еле передвигаюсь даже в своей небольшой квартире при помощи Розы Гавриловны, которая и сама весьма сдала ("укатали сивку крутые горки"). Страдая бессоницей, я провожу большую часть суток за письменным столом. Увлеченный работой, я забываю физические и душевные страдания... Вот Вам последний акт пьесы, именуемый "Жизненный путь семьи Грузенберг".
{253}
ПЕРЕЧИТЫВАЯ РЕЧИ В. А. МАКЛАКОВА...
Статья появилась в "Новом Русском Слове" 23 апреля 1950 года.
Перепечатывается здесь в дополненном виде.
Исполнившееся в 1949 году 80-летие Василия Алексеевича Маклакова было ознаменовано изданием сборника его судебных и думских речей и публичных лекций (В. А. Маклаков. "Речи - судебные, думские и публичные лекции" (1904-1926). С предисловием М. А. Алданова. Издание Юбилейного комитета. Париж, 1949, стр. 225.).
Нельзя было более достойно отметить этот юбилей. Выбор речей, обнимающий период с 1904 по 1926 годы, сделан удачно; они снабжены краткими, но содержательными вступительными заметками. Помещенная, как вступление к книге, статья М. А. Алданова написана с обычным для автора богатством материала и мастерством.
Для людей моего поколения воспроизведенный в юбилейном сборнике материал не содержит ничего нового: его не читаешь, а перечитываешь. Речи Маклакова в свое время печатались в газетных отчетах, его публичные лекции появлялись в очередных книжках "Русской Мысли". Всё это тотчас же читалось с вниманием и интересом, и многое до сих пор не изгладилось из памяти.
С тех пор прошло много лет, и на фоне собственных воспоминаний перечитываешь эти речи с особым чувством - часто с волнением, и всегда с неменьшим интересом, чем при первом чтении.
{254} Вероятно, речи Маклакова особенно потому выдерживают это испытание временем, что они дышат искренностью. М. А. Алданов правильно отмечает его "органическую нелюбовь к неправде... к искажениям, к преувеличениям, к умолчанию, к односторонности... ко всему тому, что выражается словом тенденциозностью. Действительно, читая и перечитывая речи Маклакова, можно не соглашаться с оратором, но нельзя не чувствовать, что перед нами человек большой интеллектуальной честности, который говорит только тогда, когда имеет что сказать, и высказывает только то, что думает.
По своей внешней форме речи Маклакова отличаются исключительной простотой. В них нет специфического "красноречия", нет риторики, почти нет пафоса. Их красота - в выразительности языка, в меткости сравнений, в яркости словесных образов. И главная сила его речей не в их форме, а в содержании.
Маклаков - прирожденный оратор. Даже его статьи - ни что иное, как записанные речи, стенограммы докладов и лекций. Видно, что, хотя он тщательно изучал и продумывал вопросы, по которым ему приходилось выступать, самое изложение не стоило ему большого груда. Так оно и было в действительности. К Маклакову однажды обратились с просьбой прочесть в Петербугском юридическом Обществе доклад о волостном земстве и о правовом положении крестьян (он внес законопроект по этому вопросу в Государственную Думу). Маклаков предупредил, что не имеет времени готовиться и что доклад будет носить характер простой беседы. Однако, председательствовавший в заседании общества М. М. Винавер вслед затем говорил, что "никогда не слышал более блестящего доклада - да еще на такую скучную тему".
{255} Я не собираюсь говорить о Маклакове, как политике, - к тому же четыре думских речи, напечатанные в сборнике, дают лишь неполное и неточное представление об его политических взглядах даже в ту эпоху (не говоря уже о последующей эволюции этих взглядов). Хочу лишь поделиться впечатлениями, полученными при перечитывании его думских речей, - независимо от того, что мы знаем об ораторе.
Речь Маклакова по законопроекту об отмене военно-полевых судов была произнесена в 1907 году во Второй Государственной Думе. Она сильна не столько убедительностью аргументов, сколько страстностью протеста против правительственного террора, который тогда достиг своего апогея в введенной Столыпиным системе военно-полевых судов. То, что Маклаков говорит в этой речи о смертной казни, можно сравнить с жуткими страницами еще не появившегося тогда Толстовского "Не могу молчать":