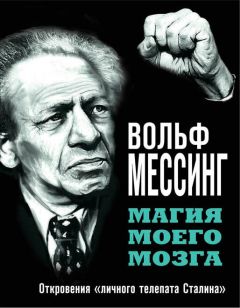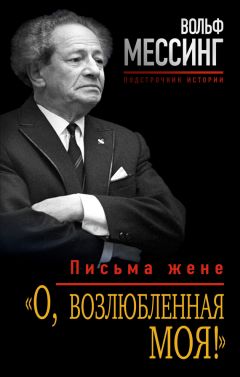Жизнь моя была насыщена самыми разнообразными событиями. Иначе и быть не могло, ведь я ездил по миру, встречался со множеством самых разных людей. Среди моих знакомых были представители разных слоев общества. Хочу рассказать, как однажды ко мне за помощью обратился князь Адам Людвик Чарторыйский[34]. Чарторыйский был князь, а не граф, но в моих «воспоминаниях» он почему-то превратился в графа. И история поисков пропавшей бриллиантовой броши была напечатана в сильно сокращенном виде. Кое-кто решил, что советским читателям совершенно не интересна история поиска княжеских драгоценностей. А история эта заслуживает того, чтобы остановиться на ней поподробнее.
Пропажа на самом деле была ценной, брошь стоила целое состояние. На мелкую пропажу князь бы и внимания не обратил. Мы не договаривались насчет того, что князь заплатит мне 25 процентов от стоимости броши. С учетом огромной стоимости броши то была бы неслыханно большая сумма. Не могу даже представить, чтобы я поставил подобное условие. У меня на это не хватило бы наглости. Князь сказал, что он хорошо вознаградит меня в случае успеха, я понял, что он меня не обманывает, и согласился помочь. Наверное, цифра 25 процентов появилась по аналогии с советскими законами, по которым нашедшему клад полагается именно столько от его стоимости. Впрочем, это не имеет значения. На других искажениях правды останавливаться не стану, расскажу, как оно было на самом деле.
Чарторыйский, несмотря на свое богатство, был весьма добрым и совестливым человеком. Он был очень религиозен. «Я уверен, что кражу совершил кто-то из моей многочисленной прислуги, – сказал мне князь. – Больше некому. Но я боюсь бросить тень на невиновного и не хочу, чтобы взаимные подозрения отравляли атмосферу в моем замке. Полиция только внесла смятение. Они подозревали всех и каждого, но пропажу так и не нашли. Поэтому я обратился к вам».
Граф представил меня как художника, которому предстояло написать его портрет и сделать несколько красивых зарисовок. Рисовать я совершенно не умею, но примерно представляю, как должны вести себя художники. С карандашом в одной руке и альбомом в другой я ходил по замку, время от времени что-то черкая в альбоме. Если бы кто-то заглянул в альбом, то очень бы удивился. Вместо того чтобы делать зарисовки, я записывал на идиш тех, кого успел прощупать на предмет кражи. Список мне был нужен для того, чтобы убедиться в том, что я не пропустил никого из прислуги.
Мысли прислуги были самыми разнообразными. Порой я смущался, наткнувшись на нечто этакое, о чем и писать неприлично. Некоторые думали об украденной броши, но не так, как если бы украли ее сами. Они подозревали, что это мог сделать кто-то другой. К тем, кто был на подозрении у других слуг, я присматривался с особым тщанием. День прошел без толку, к вечеру второго дня в замок приехала пани Мария, жена князя. Стоило мне пройти мимо ее горничной, которая сопровождала княгиню повсюду, как я понял, что передо мною воровка. Но понял еще кое-что. Девушка, чьего имени я называть не стану, глубоко и искренне раскаивалась в содеянном. Она взяла брошь под влиянием минутного порыва. Побудила ее к тому тяжелая болезнь отца, которая бедственно сказалась на положении семьи. Но теперь брошь жгла ей душу и тело (про тело сказано в прямом смысле, потому что брошь она прятала за корсажем). Девушка раскаивалась, она хотела исправить свою ошибку, но не знала, как это сделать. После того как полиция перерыла весь замок Чарторыйских сверху донизу, подкинуть брошь на место или куда-то еще было невозможно. Улучив момент, я поговорил с горничной княгини наедине. Рыдая, она призналась мне в краже и умоляла спасти ее от позора. Она утверждала, что в противном случае наложит на себя руки, и я понимал, что это не угроза и не бахвальство. Несчастная девушка и впрямь могла повеситься, потому что жизнь с клеймом воровки представлялась ей невозможной. И еще я чувствовал, то есть – знал, что больше никогда в жизни она не запятнает своих рук кражей или каким-то еще преступлением. Чего только не случается в жизни! Иногда человек может совершить проступок или даже преступление под влиянием минутного порыва. Суть не в проступке, а в натуре человека. Я поверил несчастной девушке (у меня были на то веские основания) и решил ей помочь. Решил спасти ее от позора. Но как объяснить князю находку броши? Ведь он непременно начнет задавать вопросы. Там, где обычный человек мог бы ответить: «Не могу того знать», я должен был дать исчерпывающий ответ. Иначе невозможно, ведь я способен видеть то, чего не видят другие. Положение было сложным, но я нашел выход. Для этого мне пришлось обвинить невиновного, но угрызения совести не мучают меня, потому что обвиненным оказался слабоумный идиот, сын княжеского камердинера. Князь благоволил ему, он вообще был сострадательным человеком, а никакого спроса со слабоумного не было. С таким же успехом можно было обвинять птицу, утащившую в свое гнездо какую-нибудь яркую безделушку.
Стоило мне найти «виновного», как тут же сложился остальной план. Спрятав брошь в пасти медвежьего чучела, которое стояло в коридоре (среди Чарторыйских было много охотников и трофеями-чучелами был уставлен весь замок), я добавил туда еще кое-чего: серебряную ложку, папиросный мундштук, наперсток и т. п. для того, чтобы сокровищница была полной и производила нужное впечатление. Затем я подвел к чучелу князя и изобразил «счастливую находку» броши. Князь «догадался» раньше, чем я успел ему все объяснить. «Неужели это Адась?[35]» – спросил он, увидев все, что я достал из медвежьей пасти. Идиот был тезкой князя, его тоже звали Адамом, и это обстоятельство побуждало князя относиться к нему с еще большим состраданием. Я молча кивнул. «Как я рад! – воскликнул Чарторыйский. – Как я рад, что в моем доме нет воров! Спасибо пану Мессингу, который вернул мне доверие к моим людям!» Князь щедро наградил меня. Я был доволен, но вряд ли размер награды составлял хотя бы один процент от стоимости броши. То была не брошь, а целая диадема[36], усыпанная крупными бриллиантами. Я равнодушен к драгоценностям, если и ношу булавку с перстнем, то делаю это скорее по привычке, чем от великой любви, но эту брошь так и хотелось держать в руках и рассматривать до бесконечности. Я понял искушение, которое овладело бедной горничной. На мой взгляд, в том, что произошло, в первую очередь была виновата княгиня. Подобные реликвии не стоит хранить в незапертом ящике. Для того есть сейф. Не стоит лишний раз искушать прислугу. Я не пытаюсь оправдать горничную, я просто делюсь своими мыслями. Не стоит искушать. Неспроста же в главной молитве христиан есть слова «не введи нас во искушение». Искушение порой бывает весьма и весьма сильным.
Спустя несколько лет я увидел горничную, о которой шла речь, на одном из своих выступлений. Я сразу же узнал ее. Она сидела во втором ряду и держала на коленях огромный букет роз. Вручив мне букет после выступления, она тут же ушла. Я не успел ее расспросить, но успел узнать, что у нее все хорошо. Было очень приятно сознавать, что тогда, в княжеском замке, я принял верное решение. Какие причудливые фортели выкидывает жизнь! Я покрыл преступницу, обвинил невиновного, и горжусь этим, потому что сделал хорошее дело. «И волк сытым ушел, и коза жива осталась», – говорили в таких случаях у нас дома. Сам я тоже однажды в жизни поддался искушению – украл немного монет из отцовского кармана. Отец нещадно выпорол меня, приговаривая: «Не тебя бью, а дурь из тебя выбиваю», – а мать плакала и причитала: «Ах, неужели мой мальчик будет вором?» Не знаю, что подействовало на меня больше – отцовская порка или слезы матери, но с тех пор мои руки не касались чужого. А вот моего брата Берла кривая дорожка чуть не довела до большой беды.
Мой брат Берл очень хорошо рисовал, и почерк у него был таким хорошим, буковка к буковке, что наш меламед[37] реб Айзик предсказывал, что Берл станет сойфером[38]. Но для того, чтобы стать сойфером, нужно учиться, а у Берла такой возможности не было. Семья наша была бедной, отец мог выучить в иешиботе[39] только одного сына, и его выбор пал на меня, несмотря на то что меня никогда не привлекала перспектива стать раввином. Не тот у меня характер. Берл помогал отцу, а спустя два года после смерти матери он ушел, точнее – сбежал из дома. Я его понимаю, сам в свое время поступил точно так же. Пока мать была жива, ее золотой характер немного смягчал отцовскую суровость и дома можно было жить. Когда же она умерла, обстановка в доме стала невыносимой. Горе еще больше ожесточило отца, и всем нам просто житья не было. Я всегда думал о том, что со своими детьми стану обращаться совсем иначе, стану любить их, баловать, никогда руки на них не подниму. Зачем поднимать руку, если можно сказать языком? «Побои проходят, а слова остаются», – приговаривал отец, наказывая нас. Правда, у отца под горячую руку и слова сыпались между ударами. Наверное, в воспитании детей нужна строгость, без строгости нельзя. Сужу об этом по чужому опыту, потому что своих детей у меня нет. Но строгость не должна превращаться в жестокость. Строгость воспитывает, а жестокость только озлобляет. Это я сам на себе испытал.