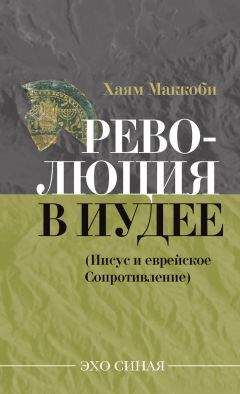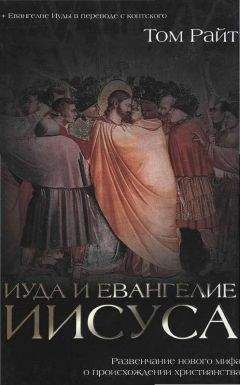Позже назареян называли эбионитами, сохранилось важное эбионитское или частично эбионитское сочинение «Псевдо-Климентины» («Гомилии Климента» и «Встречи Климента»).
Первым ученым, отождествившим назареян с первоначальными иудео-христианами и опознавший раннюю историю церкви как борьбу между назареянами и павлинистами, был F. C. Baur («Kirchengeschichte», 1853). Современное научное рассмотрение этого тезиса см. в книгах S. G. F. Brandon «The Fall of Jerusalem and the Christian Church» (1957) и «Jesus and the Zealotes» (1967). Впечатляющая попытка реконструкции доктрины назарейства содержится в книге R. Graves и J. Podro «The Nazarene Gospel Restored» (1953).
Многие ученые продолжают оспаривать точку зрения, согласно которой ранние христиане не верили в божественность Иисуса, и солидарны в этом с официальной позицией католической церкви, считающей назареянство позднейшей ересью.
Памяти Анатолия Марковича Членова
Вместо послесловия
Эту книгу перевел на русский язык мой отец Анатолий Маркович Членов (1916–1990). Он был интересным человеком и принадлежал к наиболее трагическому поколению недавно минувшей эпохи — к тем, чье детство пришлось на Первую мировую и на эпоху революций и гражданских войн в России, чью молодость унесла Вторая мировая война. Биография отца не следовала стандартной схеме — бабушка и дедушка еще соблюдают кашрут и потихоньку молятся в синагоге, отец и мать подаются в большевики, а уж сам имярек, а еще вернее — его потомки уподобляются тем детям, у которых была оскомина от кислого винограда, который ели их отцы. У Тилли, так его звали его родные, все было не совсем так. Дедушки и бабушки его, жившие в небольшом городке Новозыбкове, в ту пору Черниговской губернии, а сейчас Брянской области России, кашрут, наверное, действительно соблюдали, но как-то не рьяно. Моя бабушка любила вспоминать, что за отцовским столом всегда подавали ветчину. «Почему?» — спросил у нее я. «Какой ты чудак, — ответила она мне. — Чтобы мы лучше питались. Но сам папочка никогда не ел!» Родители его большевиками никогда не были, в партии никто из них не состоял и революцию не делал.
Такой вот нестереотипный облик местечка и не самая типичная для людей тех лет биография. А на самом деле так оно и было. Тогда, в конце XIX века, местечко уже начало распадаться и разрушаться. Большинство молодежи стремилось поскорее вырваться оттуда, причем не обязательно в большевики или эсеры. Привлекала еврейских юношей и девушек того времени та витавшая в воздухе, но плохо определяемая словами стихия под названием «русская интеллигенция», тот «особенный еврейско-русский воздух…»[127], что уже в XX веке, во времена отцовской зрелости, проявит себя как в Союзе, так и в эмиграции. Родители моего отца потянулись еще в самом начале XX века в Петербург, где уже жила старшая сестра бабушки, вышедшая замуж за адвоката. Самой же бабушке пришлось для временного пребывания у сестры обзавестись дипломом «повивальной бабки второго разряда», который до сих пор хранится в моем домашнем архиве. В 1914 году родители моего отца, как они сами говорили, «венчались» в петербургской синагоге. Уже шла война, уже звучал колокол по старой еврейской жизни, по привычному еврейскому народу, с его идишем, уникальным образом жизни, манерой поведения, культурой. Отец отца, Мордух Нисонович Членов, который вскоре станет Марком Николаевичем, решает уехать с молодой женой в Баку, в развивающийся нефтяной центр, где уже поселился один из родственников. Там в октябре 1916 года у них рождается сын, получивший еврейское имя Натаниэль Богдан. Последнее имя было дано ему в честь его бабушки Богданы, кроме того, и Натаниэль, и Богдан имеют одно и то же значение — «Богом данный». Понятно, что долго такое имя не продержалось и сохранилось только в устных семейных анналах. Мальчик вскоре получил «детское» имя Тилюсик, впоследствии Тилли. А когда вырос, стал Анатолием Марковичем, каковым и прожил всю остальную жизнь.
Революции и войны застают семью в Грозном, где Марк Николаевич редактирует газету «Горский голос», призывающую к лояльности по отношению к Временному правительству и войне до победного конца. В 1918 году семья решает вернуться в Новозыбков и добирается до него за полгода. Своего рода подобие странствий по пустыне народа Израиля, которому на преодоление пути длиной в несколько месяцев понадобилось 40 лет. Но путь был пройден, и в конце его бывшие местечковые евреи стали новыми людьми, которым предстояло жить в Советском Союзе. Нет надобности говорить, что отец не получил традиционного еврейского воспитания. Хотя не так все просто. В дневнике, который вела его мать, моя бабушка Елена Владимировна (Ента Вульфовна), я прочел, что маленький Тилюсик учился бодро произносить по-еврейски слова ядаим, т. е. «ручки» и хотем, т. е. «носик». На фотографиях того времени у маленького мальчика на шее висит цепочка с магендавидом. В домашнем архиве я нашел письмо к отцу от того самого дяди, адвоката, который когда-то имел право жительства в Петербурге. Уже в 1929 году он писал племяннику, что скоро тот пройдет обряд бар-мицвы, наложит тфилин и станет полноправным членом еврейского народа. Наша семья имела все признаки просвещенного еврейского семейства, вписанного в просвещенное же русское общество, но отнюдь не чуждого и национальному самосознанию, опять же в просвещенной форме. Но это продлилось недолго и кардинально изменилось в бурные 20–30-е годы, когда семья, после некоторых странствий, оказалась в Москве.
Тилли оказывается способным юношей, легко освоившим несколько иностранных языков и очевидно склонным к гуманитарной деятельности. Еще подростком он начинает писать стихи, эссе, статьи. Он кончает вначале Московский институт новых языков[128] (был такой институт, в названии которого слово «новые» противопоставляло современные языки древним) и получает квалификацию переводчика с французского и немецкого языков, а затем поступил и кончил знаменитый ИФЛИ — Институт философии, литературы, истории — по специальности искусствоведение. В ту пору он — вполне советский молодой человек, искренне верящий и даже увлеченный окружающей его действительностью. Он занимается мировой историей, много читает, пишет, общается с интересными людьми. Уже в то время у него начинают появляться идеи, впоследствии определившие его отношение к жизни и миру. Он как-то доходит до мысли, что истинной основой человеческой жизни является способность противостоять злу, причем злу общественному. Понимание того, что никто из живущих на земле, каким бы великим он ни казался, недостоин поклонения, но только Господь, приходит к нему вначале через достаточно поверхностное знакомство с христианством — как с историческим, а не религиозным феноменом. Незадолго до войны он пишет серию эссе в виде переписки с другом, философом Игорем Ильиным, которые он озаглавил «Письма о Евангелиях». В них он впервые затрагивает тему, ставшую впоследствии центральной для его творчества, — сопротивление злу. В раннем христианстве, в евангельских текстах он видит, как это ни парадоксально, скорее теорию, нежели практику сопротивления римскому господству в Иудее — взгляд, который впоследствии развил Х. Маккоби.
К войне Тилли подошел весьма образованным и начитанным юношей, воспринимавшим мировую культуру через призму своего сложившегося русско-еврейского советского бытия. Война для отца, как для многих его сверстников, в конечном счете стала главным событием жизни, во многом перевернула и потрясла само его миропонимание. Он прошел ее с Курской дуги до балтийского побережья Германии, начав рядовым и кончив капитаном, а после войны остался в Германии работать сотрудником советской военной администрации земли Тюрингия в советской оккупационной зоне. Только в 1948 году он снова, уже демобилизовавшись, вернулся в Москву. Война потрясала и ломала людей, переживших ее, по-разному. Только много позже участие в войне стало предметом гордости и ветеранского почитания. Тогда же в войне участвовали практически все, все страдали от нее, как на фронте, так и в тылу. Ужасы войны, ставши буднями военного поколения, не потрясали людей так, как они иногда потрясают знающих их понаслышке потомков. Холокост, невольным свидетелем которого оказался мой отец, освобождая запад Советского Союза и Польшу, воспринимался им тогда как часть ставших будничными ужасов войны. Уже позже, когда мы жили в Веймаре, я не знал, что рядом с нашим городом располагался страшный Бухенвальд. Отец никогда не рассказывал мне о нем, не водил туда, хотя с прочими окрестностями города я был хорошо знаком.
Основным впечатление моего отца от войны был, не побоюсь это сказать, облик широкого мира, пусть разбитой, но все же прекрасной Европы, которую он до этого не знал и не понимал. Побежденная не без его участия Германия виделась ему не жутким нацистским логовом, а прекрасной пленницей, сохранившей, несмотря ни что, остатки былой красоты. Подобно офицерам 1812 года, покорившим Европу и впервые увидевшим и понявшим ее, мой отец увидел воочию этот до недавнего времени незнакомый советскому человеку мир, полюбил его и понял, как многого он был лишен раньше.