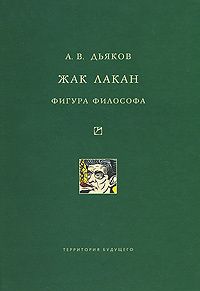С помощью того, что воплощается лишь в качестве следа некоего небытия и чей носитель с момента воплощения измениться не может, концепт, храня длительность преходящего, порождает вещь.
Мало сказать, что концепт и есть сама вещь — это, вопреки школьной мудрости, может доказать и ребенок. Именно мир слов и порождает мир вещей, поначалу смешанных в целом становящегося «здесь и теперь»; порождает, сообщая их сущности свое конкретное бытие, а тому, что пребывает от века (χτήμα ές άεί) — свою вездесущность Итак, человек говорит, но говорит он благодаря символу, который ею человеком сделал. Ведь если назвавшего себя чужестранца встречают дары избыточно обильные, то жизнь естественных групп, образующих сообщество, подчиняется брачным правилам, регулирующим порядок обмена женщинами и соответствующие взаимные повинности, этими правилами определяемые; по пословице Сиронга, родственник со стороны супруги все равно что ляжка слона. Брак определяется порядком предпочтений, правила которого, включающие именования степеней родства, для группы, как и язык, императивны по форме, но бессознательны по своей структуре. И вот в структуре этой, гармония и тупики внутри которой регулируют ограниченный или обобщенный обмен, различаемый в ней этнологией, изумленный теоретик находит всю комбинаторную логику; законы числа, т. е. символа в наиболее чистом его виде, оказываются, таким образом, имманентными изначальному символизму. Во всяком случае в богатстве форм, в которые развиваются т. н. элементарные пруктуры родства, законы эти без труда прослеживаются. И это наводит на предположение, что лишь неосознанностьих постоянства еще сохраняет у нас иллюзию в свободе выбора внутри тех якобы сложных брачных структур, под законом которых мы существуем. Недаром статистика дает понять, что свобода эта осуществляется не произвольно; ведь в результатах своих она сориентирована субъективной логикой.
Вот почему, признавая, что значение Эдипова комплекса распространяется на всю область нашего опыта, мы вправе сказать, что именно он определяет границы, которые наша дисциплина предписывает субъективности, т. е. определяет то, что субъект может узнать о своем бессознательном участии в движении сложных структур брачных уз, наблюдая в собственном индивидуальном существовании символические последствия тангенциального движения к инцесту, дающего о себе знать с момента возникновения универсального сообщества.
Изначальным Законом является, следовательно, тот, который, регулируя брачные союзы, ставит над царством природы, где господствует закон спаривания, царство культуры. Запрет инцеста является лишь субъективным стержнем этого закона, очевидным благодаря современной тенденции сводить запрещенные для выбора объекты к сестре и матери, хотя нельзя сказать, что все остальное нам уже позволено.
Закон этот, следовательно, достаточно ясно обнаруживает свою идентичность со строем языка. Ибо без именований родства никакая власть не в силах установить порядок предпочтений и табу, поколениями плетущих и связывающих нити наследственности. Именно смешение поколений Библия и все традиционные законы предают проклятию как словесную скверну и пагубу для грешника.
И мы прекрасно знаем, какое пагубное воздействие, вплоть до разрушения личности, может оказать на субъект фальсификация родственных связей, если ложь находит опору и поддержку в окружении. Не менее пагубные последствия могут возникнуть в случае, когда мужчина берет в жены мать женщины, от которой у него был ребенок: братом этого последнего окажется тогда брат его матери. И если впоследствии — а случай этот не придуман — он был из сочувствия усыновлен семьей дочери от предыдущего брака отца, то оказался сводным братом своей приемной матери, и нетрудно представить, с какими сложными чувствами должен он ожидать рождения ребенка, который придется ему одновременно братом и племянником.
Даже простое смещение поколений, происходящее с рождением позднего ребенка от второго брака, молодая мать которого оказывается ровесницей его старшего брата, может привести к почти таким же последствиям; как известно, сам Фрейд был именно в такой ситуации.
Та самая функция символической идентификации, с помощью которой первобытный человек воплощает в себе носившего его имя предка и которая обуславливает повторение ряда чередующихся характеров у современного человека, у субъектов, отношения которых с отцом оказались тем или иным образом нарушены, вызывает распад Эдипова комплекса, в котором и следует видеть источник дальнейших патогенных эффектов. Даже будучи представлена единственным лицом отцовская функция сосредотачивает в этом лице воображаемые и реальные отношения, которые всегда более или менее неадекватны символическому отношению, конституирующему ее сущность.
Именно в имени отца следует видеть носителя символической функции, которая уже на заре человеческой истории идентифицирует его лицо с образом закона. В ходе анализа данная концепция позволяет нам ясно отличать бессознательные эффекты этой функции как от нарциссических отношений, так и от отношений реальных, которые субъект поддерживает с образом и действиями лица, ее воплощающего; в результате рождается определенная форма понимания, отражающаяся на характере аналитического вмешательства. Практика убедила в плодотворности этого метода как нас самих, так и учеников, его у нас заимствовавших. И наоборот, в процессе контроля, в совместной аналитической работе, мы неоднократно имели случай обращать внимание на опасную путаницу, порождаемую непониманием этого метода. Итак, именно сила слова увековечивает движение Великого Долга, власть которого Рабле, в своей знаменитой метафоре, распространяет на всю поднебесную. И нет ничего удивительного, что именно в главе, где макароническая инверсия именования степеней родства предвосхищает этнографические открытия нашего времени, обнаруживается прозрение Рабле в самую сердцевину той человеческой тайны, которую, что мы стараемся здесь прояснить.
Нерушимый Долг, идентифицируемый со священным «hau» или вездесущим «mana», служит гарантией того, что путешествие, в которое отправляются женщины и добро, непременно, совершивположенный цикл, вернет в точку отправления других женщин и другое добро, в своей сущности идентичных отправленным; Леви-Стросс называет это нулевым символом, сводя тем самым могущество Речи к форме алгебраического знака.
Символы и в самом деле опутывают жизнь человека густой сетью: этоони еще прежде его появления в мире сочетают тех, от кого суждено ему произойти «по плоти»; это они уже к рождению его приносят вместе с дарами звезд, а то и с дарами фей, очертания его будущей судьбы; это они дают слова, которые сделают из него исповедника или отступника и определят закон действий, которые будут преследовать его даже там, где его еще нет, вплоть до жизни за гробом; и это благодаря им кончина его получит свой смысл на Страшном суде, где — не сумей он достичь субъективной реализации бытия-к-смерти — Словом его бытие оправдается или Словом же осудится.
Вот рабство и величие, в которых живое существо бесследно исчезло бы, если бы по смешении языков, когда противоречащие друг другу веления развалили общее дело, желание не сохранилось в интерференциях и пульсациях, сходящихся на нем в круговоротах языка.
Но само желание это, чтобы быть в человеке удовлетворенным, требует признания в символе или же в регистре воображаемого, что оборачивается поисками речевого согласия или борьбой за престиж.
Задача психоанализа состоит в том, чтобы воцарилась в субъекте толика реальности, которую желание это поддерживает в нем по отношению к символическим конфликтам и воображаемым фиксациям как средство их согласования; наш путь — это тот интерсубъективный опыт, в котором желание достигает признания.
Теперь становится ясно, что вся проблема состоит в отношениях речи и языка внутри субъекта.
В пределах нашей области мы наблюдаем в этих отношениях три парадокса.
В безумии, какова бы ни была его природа, мы должны различать, с одной стороны, отрицательную свободу речи, не притязающей более на признание, т. е. то, что мы называем препятствием к переносу, и, с другой стороны, своеобразные формы бреда, который — сказочный ли, фантастический, космологический, — требовательный, интерпретирующий или идеалистический, — объективирует субъект в лишенном диалектики языке [20].
Отсутствие речи обнаруживает себя в стереотипах дискурса, где субъект не столько говорит, сколько сказывается; символы бессознательного являются нам здесь в окаменевших формах, которые, наряду с мумифицированными формами, в которых сохраняются мифы в наших книгах по мифологии, находят себе место в естественной истории этих символов. Ошибочно, однако, полагать, будто субъектих усваивает, ибо сопротивлениеих признанию оказывается не меньшее, чем в случае неврозов, когда субъекта толкает на это сопротивление попытка лечения.