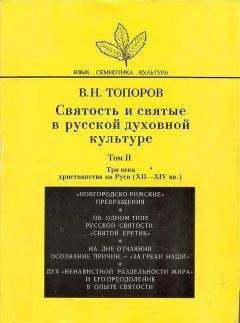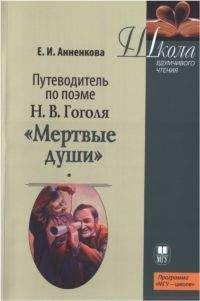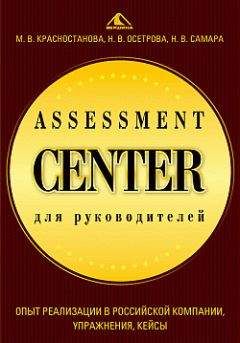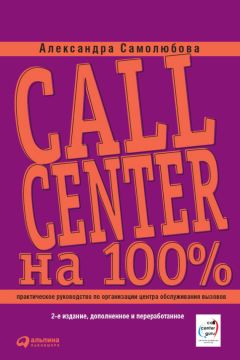443
Феномен насилия, все более привлекающий к себе внимание исследователей (Storr 1968; Lorenz 1968; Girard 1972 и др.), самым непосредственным образом связан с жертвой и с категорией святости (Girard 1972). Факт святости жертвы хорошо известен (ср. Hubert, Mauss 1899; 1968 и др.), но жертва связана и с тем, что решительно противоположно святости, — с преступлением: «Il est criminel de tuer la victime parce qu'elle est sacrée… mais la victime ne serait pas sacrée si on ne la tuait pas» (Girard 1972:9); ср. анализ жертвоприношения как violence criminelle и соотношение насилия и святости («C'est la violence qui constitue le coeur véritable et l'ame secrète du sacré», Girard 1972:51). Среди идей, высказывавшихся в связи с этим кругом проблем, две имеют особое отношение к истории Бориса и Глеба. Первая — жертва тяготеет к максимуму «неприспособленности» к тому, чтобы быть жертвой: она отличается особой невинностью, чистотой, нежностью, близостью к человеку; сама идея принесения кровавой жертвы, когда ее объектом выступает носитель таких качеств, кажется абсурдной (ср. Maistre 1890 и др.). Вторая — насилие, сигнализирующее, в частности, la crise sacrificielle (другие говорят о тесной связи между социальным конфликтом и ритуалом, см. Тэрнер 1983:112 и др.), вызывает возрастание насилия, соревнование в нем, которое может стать опаснейшей угрозой основам жизни, и единственный в этой ситуации способ выйти из цепи эскалации насилия — вольная жертва, самопожертвование: самое чистое, невинное и физически слабое против самого жестокого, насильственного и физически грозного. Только такое соотношение максимально противопоставленных участников жертвоприношения обеспечивает выход из кризисной ситуации и появление высшей духовной силы из крайней физической слабости, приносящей себя в жертву. Тайна добровольной жертвы Бориса и Глеба именно в этом (недаром так настойчиво возникает в этих случаях тема «подражания», соотнесения себя с высшим образцом, с первожертвой), в этом же сила и благодатность этой жертвы, открывающей путь к святости.
В минуту слабости соблазн обмена свободы на жизнь возникает перед Глебом («помилуите, господье мои! Вы ми будьте господие мои, азъ вамъ рабъ»), но он преодолевает его. Борис идет на смерть не как раб (ср. «Сльзъ моихъ не презьри, Владыко, да яко же уповаю на тя, тако да съ твоими рабы прииму часть и жребии съ вьсеми святыими твоими»; для Бориса быть рабом Господа означает возрастание в святости и, следовательно, обретение высшей духовной свободы), по сути дела, лишенный выбора, а свободно, потому что он познал истину («И познаете истину, и истина сделает вас свободными», Иоанн VIII:32), приник к Духу Господню («а где Дух Господень, там свобода», 2 Коринф. III:17), ср. также Римл. VIII: 20–21, и следует высокому образцу («…Я отдаю жизнь Мою, чтобы принять ее»; «Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее: имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее», Иоанн Х:17–18). Ничего не может быть более противоположным, чем свобода и смерть. И парадоксальность поведения Бориса как раз в том, что свою высшую свободу он обретает, выбирая смерть. Если верно гегелевское определение свободы как «bei–sich–selbst- Sein», т. е. «бытия–у–себя–самого», то Борис, безусловно, свободен в силу этого выбора вольной смерти.
Мотив воли очень важен в «Сказании» Ср. (оба раза в связи с Борисом): «Се готовъ есмь предъ очима твоими сотворити, елико велить воля сердьца твоего» (т. е. отца Бориса князя Владимира); «Се да иду къ брату моему [т. е. к Святополку] и реку: Ты ми буди отець — ты ми брать и стареи. Чьто ми велиши, господи мои?… Воля твоя да будетъ, господи мои…» и др. Воля Бориса, проявившаяся в его выборе, соотносилась им с волей Христа в подобной же ситуации: «Господи, Иисусъ Христе! Иже симь образъмь на земли изволивы волею пригвоздитися на крьстe и приимъ страсть грехъ ради нашихъ, съподоби и мя прияти страсть!» (11 в., ср. по соседству: «ничто же себе изволихъ по апостолу»).
См. соображения о связи с Волосом другого покровителя Руси св. Николая (Успенский 1982:31–117).
О других свидетельствах этого рода см. Топоров 1987.
Ср. употребление глагола «съподобити» в словах Бориса (ср., напр., «Слава ти, яко съподобилъ мя еси убежать отъ прельсти… Слава ти…, яко сподоби мя труда святыхъ мученикъ. Слава ти… съподобивыи мя съконьчати хотение сердьца моего!»; «ту и азъ съподобленъ буду съконьчати животъ свои»; ср. также слова Глеба: «…да быхъ азъ съподобленъ ту же страсть въсприяти…») и другие средства развертывания темы imitatio Christi. Весьма характерны последние слова, произнесенные братьями перед смертью: «Братие, приступивъше, съконьчаите службу вашю…» (Борис); «То уже сотворивъше приступлыпе сотворите, на не же посълани есте!» (Глеб). Ср. Иоанн XIII:27: «что делаешь, делай скорее».
«Русский дух, так сказать, насквозь религиозен. Он, собственно, не знает ценностей помимо религиозных, стремится только к святости, к религиозному преображению. В этом, возможно, наибольшее различие между западноевропейским и русским духом», — писал русский философ, вынужденный жить на Западе (Франк 1992:491), излагая западным коллегам основы русского мировоззрения (текст так и назывался «Русское мировоззрение», 1925).
«Поэтому первая и, безусловно, всеобщая аксиома опытного знания гласит: всякая реальность есть нечто большее и иное, чем все, что мы о ней знаем, — и даже чем все, что мы когда–либо можем о ней узнать» (Франк 1992:433, ср. о docta ignorantia, «ведающем неведении», идея которого впервые была выдвинута «основателем рациональной мысли» Сократом).
Неисчерпаемость подлинного духовного творчества определяет его оригинальность как некий вид, форму и знак подлинности. Подлинность не спрашивает, оригинальна ли она или нет: такие вопросы — не для нее и не о ней, они вне ее. Поэтому, вполне соглашаясь с автором ценной работы о Борисе и Глебе и соответствующих параллелях в других традициях (Ранчин 1994) — св. Вацлав, «Житие» которого, несомненно, повлияло на «Сказание о Борисе и Глебе», сербский князь Стефан Дечанский, Эдуард Мученик Английский, Олав Норвежский и др. (не говоря уж о русских князьях Игоре Ольговиче, Андрее Боголюбском, Васильке Теребовльском, Михаиле Тверском), в том общем, что объединяет все эти фигуры и стоящие за ними ситуации, едва ли можно согласиться с сомнениями относительно того, что в «Сказании» представлены «характерные и специфические черты русской религиозности» (Ранчин 1994:1–2), поскольку «характерное и специфическое» может иметь более чем одно «вхождение» и, следовательно, не исключает той же характерности и специфичности в других традициях и не ставит их под сомнение. Наконец, «оригинальное» всегда предполагает отнесение к целому и может не опознаваться применительно к частичному.
См. Зализняк А. А. Проблемы славяно–иранских языковых отношений древнейшего периода. Вопросы славянского языкознания. М., 1962. Вып. 6, с. 41–42. Из работ этого последнего периода выделяются две — одна предельно общего и синтетического типа (Jakobson R. Slavic Mythology, — in: Funk and Wagnall's Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend. II. N. Y., 1950. P. 1025–1028), другая, напротив, очень подробная и конкретная (Трубачев О. Н. Из славяно–иранских лексических отношений. Этимология, 1965, М., 1967. С. 3–81).
Ср. прежде всего исследования общего и/или обзорного характера, а также связанные с выявлением иранского элемента в современной «русской» топонимической (гидронимической) номенклатуре, напр.: Миллер В. Ф. Эпиграфические следы иранства на юге России. ЖМНП, 1886. Окт. С. 232–283; Соболевский А. И. Русские местные названия и язык скифов и сармат. РФВ, 1910. Т. 64. С. 180–189; Он же. Русско–скифские этюды. I–XX. ИОРЯС, 1921. T. XXVI. С. 1–44; 1922. T. XXVII. С. 252–332; Он же. Славяно–скифские этюды. I–II. Л., 1928; Vasmer М. Untersuchungen über die alstesten Wohnsitze der Slaven. 1. Die Iranier in Südrussland. Leipzig, 1923; Idem. Iranisches aus Südrussland. Streitberg–Festgabe. Leipzig, 1924. S. 367–376; Kalmykov A. Iranians and Slavs in South Russia. JAOS, 1925. Vol. 45. P. 68–71; Harmatta J. Studies in the Language of Iranian Tribes in South Russia. Budapest, 1952; Топоров В. H., Трубачев О. Н. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962; Трубачев О. Н. Названия рек правобережной Украины. М., 1968 и др.
Велес–Волос не перечисляется среди богов, чьи кумиры стояли на холме; более того, есть основания думать, что кумир Волоса стоял внизу, на берегу Днепра. Тем не менее, в пантеон, понимаемый в широком смысле слова, он, несомненно, входил.
Ср. под 907 г.: «кляшася оружемъ своим. и Перуном. богомъ своим. и Волосомъ скотемъ богомъ. и утвердиша миръ» (Лавр. лет., 32); ср.: «да имеемъ клятву от Бога. въ его же веруемъ в Перуна и въ Волоса скотыя Бога» (Там же, 73).