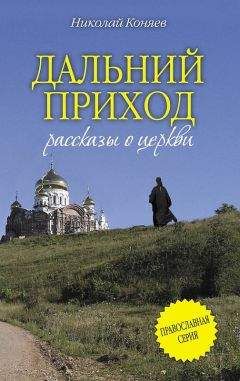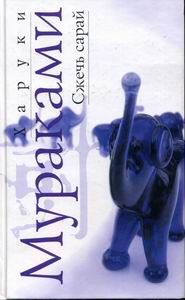Часов в пять пришел ветеринар.
Он посмотрел Живулю и сказал, что ее надо забить.
Вместе с ветеринаром ушел и отец. Он пошел договариваться с Федей, который копал всем в поселке могилы и забивал любую скотину. Мы остались с матерью вдвоем в доме.
На мать было больно смотреть.
Казалось, она только что вернулась из леспромхозовского поселка. Сутулясь, она сидела у стола, и лицо ее казалось совсем старым.
Начало смеркаться. Густо пошел на улице снег, засыпая кусты, припорашивая ветки деревьев в палисаднике.
Мать накинула фуфайку и вышла в коридор. Она долго ходила по сеням, что-то искала, потом вернулась назад и, прижавшись грудью к печи, заплакала.
Я сидел на кухне и читал книгу.
— Мама… — сказал я.
Мать послушно вытерла слезы и виновато вздохнула.
— Пойдем, — попросила она. — Фонарем посветишь, а я сена дам.
Я взял висевший на стене фонарь, и мы пошли в хлев. Встревоженно закудахтали разбуженные куры.
В хлеву было тесно, темно и тепло, здесь было много стаек — когда-то мы держали и овец, и свинью. Теперь стайки пустовали и только в самой большой, где стояла Живуля, еще теплилась настоящая хлевная жизнь.
Свет фонаря падал на Живулю и тускло поблескивал в нитях слюны, свисающих с ее больших мягких губ.
— Живуленька! — тихо позвала из темноты мать. — Не умирай, Живуля…
Живуля печально закрыла свои огромные, в мохнатых ресницах глаза и опустила тяжелую голову.
Мать принялась бестолково засовывать сено в кормушку, и так полную, потом опомнилась, как-то судорожно сглотнула вставший в горле комок и побрела, хватаясь за косяки, на улицу.
Я еще раз оглянул Живулю, попытался вздохнуть так же, как вздыхала мать, и тоже вышел из хлева.
Снегопад утих. Из темноты неба, медленно покачиваясь, падали на землю последние снежинки.
Мать не спала всю ночь.
Сквозь нехороший сон я слышал шаги на кухне. То и дело мать выходила на улицу и в коридоре скрипела дверь. И всю ночь горел в нашем доме свет.
А утром пришел дядя Федя. Вместе с отцом он долго возился во дворе, прилаживая стояки и перекладину.
Снова приходил ветеринар, он долго бубнил что-то на кухне, я в своей комнате слышал только отдельные слова: «Прободение… Язва…», мать стояла у печки, и в зеркало, что висело в большой комнате, было видно, как кривится сдерживаемым плачем ее рот. Мать не снимала с себя грязной фуфайки, и от нее пахло хлевом и талым снегом.
Потом Федя вывел из хлевушки Живулю, и мать бросилась было к окну, но тут же отпрянула назад — Живуля жалобно мукнула в последний раз и сразу же затихла под страшным ножом Феди.
Густо хлынула на молодой снег кровь.
После Федя сдирал кожу, рубил на части тушу, а мы с отцом, согнувшись, таскали в дом мясо. Половицы в коридоре тяжело скрипели под нашей тяжестью.
Во двор сбежались поселковые собаки и вначале яростно дрались над требухой. Оставляя на снегу кровавые полосы, они тащили по огороду кишки, пока другие собаки не налетали на них, и тогда сцепившийся яростный клубок катался по сугробам.
К вечеру все было кончено.
Отец, Федя и ветеринар сидели на кухне и пили водку, закусывая ее свежим поджаренным мясом. И хотя свои фуфайки они оставили в коридоре, все равно в кухне пахло кровью.
Скоро лица у мужиков раскраснелись, голоса стали громкими.
Они разговаривали о том, как убивали Живулю, и Федя — здесь он был главным — все пытался объяснить какие-то физиологические особенности Живули, из-за которых он не сразу попал ножом в артерию, и Живуля успела мукнуть.
А отец, как всегда, когда выпивал, расчувствовался и начал вспоминать, как выходила Живуля во двор, как поняла, что сейчас будет, как она падала, свалившись вначале на колени.
Мать слушала эти разговоры, и лицо ее темнело.
Уже начало смеркаться, когда я увидел ее на огороде.
Проваливаясь в снегу, она бродила за домом и собирала брошенные собаками кишки.
Она вернулась домой совсем в потемках. Ветеринар и Федя уже ушли, и мы сидели на кухне вдвоем с отцом.
— Не было никакого прободения, — остановившись в дверях, сказала мать. — Не было. Наврал ветеринар. А она-то… — голос матери пресекся. — Она-то и на шестую траву еще не ходила…
— А! — сказал отец. — Брось, Маруся.
И, вздохнув, полез в шкаф за припрятанной бутылкой.
А ночью опять шел снег. Он засыпал все кровавые пятна, и только столбы с прибитой к ним перекладиной всю зиму торчали из сугробов, напоминая о случившемся. Да еще чурбак, на котором разрубали мясо, так и остался красным от впитавшейся в него крови.
А мать долго не могла простить ветеринару Живулю, и даже перед своей смертью вспоминала, что он наделал тогда…
В детстве я видел яблоки, только когда их привозили из Ленинграда.
В нашем поселке они тогда не росли — десятилетия, миновавшего после войны, не хватало, чтобы ожила выжженная гвардейскими минометами поселковая земля.
Правда, в окрестных деревнях яблони сохранились, но они уже окончательно одичали от беспрерывной колхозной жизни и на них росли кислые и твердые плоды, больше похожие на картофельные яблоки, чем на фрукты.
Настоящие яблоки всегда были связаны с праздником и сами были праздником.
Помню, бабушка, взяв привезенное отцом яблоко в руки, задумалась, а потом сказала, что когда они только вернулись в Вознесенье из эвакуации — странник у них ночевал.
— Шурка-то наша не любила странников, но она на совещание была, в Ленинград уехавши, — сказала бабушка. — Вот я и пустила человека… А он, когда уходил, такое же яблоко подарил…
— Нет, мамаша… — ревниво сказал отец. — Это из Крыма яблоко… А тогда война еще не кончилась, откуда у странника такое яблоко взялось?
— Дак ведь не с Крыма, Миша… — вздохнув, согласилась бабушка. — Откуда в Крыму таким яблокам взяться? Сколько живу, а такого яблока больше не видела…
— Сладкое было? — спросил я.
— Наверное, сладкое, Миколя… — сказала бабушка. — А главное — не кончалось…
— Как это не кончалось?!
— А так, Миколя… У нас-то хоть тебя и на свете еще не было, детей в дому несчитано жило. Домов в поселке почти не осталось, вот и селили эвакуированных друг к другу. По две, по три семьи в комнате жили. И все с ребятами… И все ребята это яблоко видели, потому что странник при всех его мне дал. Положил на стол, а сам в сторонку отошел. А детишки чего? Обступили меня и глядят на яблоко, глаз не спускают… Ну, я взяла тогда нож, и каждому по ломтику отрезала. А половинку яблока в ящик буфета убрала, на вечер… И вот вечером открываю ящик, а там целое яблоко лежит, такое же, какое и было… Подивилась я, конечно, но перекрестилась и снова половинку яблока на всех поделила, а половинку в шкаф спрятала. А утром снова целое яблоко нашла. И так я три дня дитенков тем яблоком кормила. Иногда и по четыре раза в день им в день по ломтику давала, а яблоко не кончалось.
— А потом что? — спросил я. — Кончилось?
— А, не знаю, Миколя… — вздохнула бабушка. — Тогда ведь Шурка с райцентра, с совещания вернулась. Первым делом она странника, квартиранта моего, выгнала, а потом увидела, как я соседских детей яблоком одаряю, выхватила его у меня из рук.
— Совсем, — говорит, — с ума съехала, старая… Родные внучки без витаминов растут, а она чужих детей яблоками кормит…
Спрятала яблоко, и больше я его не видела.
— Дак, может, Люся с Галей и ели его потом? — спросил я, когда бабушка, баюкая в руках привезенное отцом яблоко, замолчала.
— Не, Миколя… — бабушка покачала головой. — Когда Шурка вечером разрезала яблоко, червивое оно оказалось. Так и пришлось выбросить…
— Что же это было?
— А не знаю, Миколя… — бабушка аккуратно положила румяное крымское яблоко в вазу. — Откуда мне знать, если Шурка говорит, что никакого ума от старости не стало… Да и на что мне ум этот?
К Новому году заносило снегом поселок и на огородах обгрызали яблони прибегавшие из леса зайцы, а иногда, особенно в снежные зимы, появлялись на задворках и волки… Мать тогда ругалась, если мы задерживались на улице, — возле баньки серели волчьи следы, величиной с наши ладошки.
Центр жизни незаметно перемещался в дом, в теплую глубину комнат.
Сюда и приносил отец елку. Обледеневшие ветки медленно оттаивали, и комнаты наполнялись запахом леса. Стоило только закрыть глаза, и казалось, что ты в лесу, не в том страшном, по-волчьи подкрадывающемся к задворкам домов, а в добром, наполненном птицами и зверятами, в просторном лесу, где хватает места для всех.
Этим лесным запахом и начинался праздник.
Можно было засесть за любимую книжку, можно было играть, но ни книжка, ни игра уже не способны были отвлечь внимания от того главного, что должно произойти…