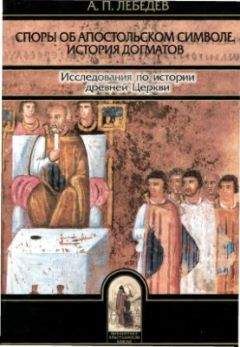После письма папы к императору решено было прочитать на соборе письмо папы к Фотию. Это письмо также дало повод к собеседованиям и прениям отцов собора. В письме к Фотию между прочим говорится: «Ты пишешь, что св. Церковь Константинопольская единодушно склонилась к признанию тебя патриархом и что ты занял кафедру, которая тебе принадлежала. Приносим от всего сердца и всей души благодарность Богу за Церковь Константинопольскую и за твое восстановление на патриаршестве». Извиняется в том, что двое папских послов (Евгений и Павел), посланные было к Игнатию, не вдруг вошли в общение с Фотием; объясняет, отчего это произошло, и замечает, что это «лишение теперь обильно вознаграждено». «Мы узнали, — пишет папа, — что у вас (в Церкви) есть некоторые схизматики, которые ищут не спокойствия, а предначинают дьявольскую борьбу, так что они увлекают за собой простодушных. Как мы радуемся о твоем восстановлении, которое совершил Бог, так и печалимся о случившемся разделении Церкви». Папа выражает надежду, что мудрость и милосердие Фотия положат конец разделению. Тот же папа советует фотию показывать снисхождение к тем из епископов, приверженных к Игнатию, которые признают его (Фотия) патриархом; Иоанн внушает Фотию, чтобы он возвращал им их должности и Церкви, коими они правили раньше.
По прочтении этого письма легат Петр предложил Фотию вопрос: принимает ли он все, что написано в письме? Фотий отвечал, что он принимает и верно будет следовать тому, что написано сообразно с законами и что касается его лично. Затем легат сделал прекрасное предложение, вытекавшее из некоторых слов папского письма, о том, как поступать на практике с игнатианскими епископами, которые противятся Фотию, а потом могут воссоединиться с ним. Он предложил следующее: игнатианские епископы, как ранее посвященные в архиереи, должны занять свои прежние кафедры, а те епископы, которые заняли было эти места (очевидно, разумеются епископы, поставленные уже Фотием), должны считаться безместными и получать пропитание от этих же Церквей, в которых они были известное время предстоятелями. Эти последние епископы должны оставаться в таком положении дотоле, пока они не займут, в случае вакантности, кафедры в той Церкви, от которой они получают пропитание, или не будут поставлены на другие кафедры. Тот же легат предложил, чтобы епископы–игнатиане, находящиеся в ссылке, были возвращены оттуда и были увещеваемы к единению с Церковью. На заявления Петра отвечал Фотий. На вопрос о том, как поступать с епископами игнатианской партии, воссоединяющимися с патриархом, Фотий не дал прямого ответа; вероятно, он это дело предоставил своему личному усмотрению. А касательно епископов, сосланных в ссылку, Фотий заявил, что император подверг этому наказанию только двоих и притом по причинам не церковным, а политическим: один был зачинщиком, а другой участником в гражданском возмущении; вина этого последнего, по словам Фотия, увеличивалась еще тем, что он в присутствии многих свидетелей позволял себе произносить порицания на папу Иоанна. Фотий добавил к этому, что если легаты желают, он будет хлопотать о помиловании их перед императором.
Легат Петр удовлетворился объяснениями Фотия относительно изгнанных епископов и завел речь о предмете, о котором не было упомянуто в письме папы к Фотию, но который очень интересовал папу; говорим о церковном болгарском вопросе. Легат заявил, что ему дано поручение потребовать от Фотия, чтобы он вперед не посылал паллиума[305] в Болгарию и не посвящал для этой страны духовных лиц. Фотий отвечал: он высоко ценит мир и предпочитает любовь всему; со своей стороны, он готов все отдать и все подарить; уверял, что он не хочет пользоваться своими правами и примером других (Игнатия?) и потому не посылал паллиума (т. е. омофора) в страну Болгарскую и не посвящал для нее духовных лиц. Так поступал он раньше и теперь, хотя уже давно взошел снова на патриаршую кафедру, он готов делиться даже тем, что составляет его собственность, с друзьями, если это зависит от его воли и не противоречит древним законам. Наконец, он говорит, что расширение границ собственного патриархата для него есть не что иное, как увеличение трудов И забот. Легат Петр, по–видимому, удовольствовался подобным неопределенным ответом и сказал: «Ты правильно мыслишь и правильно поступаешь». Затем Фотий привел выдержку из своего прежнего письма к папе Николаю, в котором говорил, что не ищет подчинения себе страны Болгарской. Двое митрополитов, Прокопий Кесарийский и Григорий Эфесский, по–видимому, взяли на себя заботу о том, чтобы поскорее покончить речь о Болгарии, и дали вопросу такую постановку, при которой дальнейшие рассуждения казались бы излишними. Они сказали: «Можно надеяться, что Бог поможет нашему императору подчинить своей власти все страны (?) света, и тогда он сделает новый передел диоцезов (патриархатов) и удовлетворит желания всех высших иерархов». Собор согласился с заявлением ораторов и сказал, что не дело собора устанавливать границы патриархатов и что это нужно предоставить будущему времени. Разумеется, на такое решение вопроса нужно смотреть как на искусственный прием, при помощи которого косвенно давали отрицательный ответ на папские требования.
Легат Петр ставит на очередь другой вопрос и просит его разрешения от собора. Вопрос этот тесно примыкает к главным положениям, высказанным папой в письме к Фотию. Он сказал: «Святейший папа Иоанн через нас спрашивает вас, каким образом снова занял патриарх Фотий патриаршую кафедру. Ибо мы должны объявить, что он не имел права занять ее до нашего прибытия». Илия, иерусалимский уполномоченный, отвечал на это, что Фотий постоянно признавался патриархом со стороны трех восточных патриарших кафедр, а также и со стороны епископов и пресвитеров Константинопольской Церкви он признавался патриархом почти всеми; таким образом, ничто не препятствовало взойти ему на патриаршество. Не найдя здесь, по–видимому, ясного ответа на вопрос, легаты обратились к епископам Константинопольского патриархата с тем же вопросом. «Братия, — говорили легаты, — объясните, каким образом Фотий снова занял кафедру патриаршую?» Собор отвечал: «С согласия трех восточных патриарших кафедр, — сказал Илия Иерусалимский, — затем по настоянию и живым увещаниям или, точнее сказать, решительному принуждению со стороны нашего императора и по избранию и мольбам всей Константинопольской Церкви». Легат Петр задал другой вопрос: «Не путем ли тирании занял Фотий патриаршество?» Вопрос несколько странный после только сделанного заявления и, во всяком случае, обидный для присутствовавшего на соборе Фотия. Члены собора справедливо заметили легату: «Есть большое различие между насилием и увещанием, и откуда мог возникнуть самый вопрос о тирании?» Тирания, продолжали свою речь отцы собора, не рождает теплого чувства к тирану, тирания не создает любви; так же единение Церкви не может возникать из тирании. Легат Петр остался теперь доволен объяснениями, данными на соборе. Он сказал: «Слава Богу, что все оказалось так, как вами изображено в письмах к папе: слова оправдались самыми фактами». Собор заметил на это: «Благодатию Христа, содействием нашего благочестивейшего императора, молитвами нашего святейшего патриарха Фотия все совершилось без малейшего замешательства; мы теперь одно стадо, один пастырь, одно согласие, соединены в едино тело во Христе, истинном Боге нашем».
Так как эти рассуждения собора ближайшим образом касались личности Фотия, который слышанным частью был одобрен и польщен, частью задет за живое, то он счел нужным сказать речь, в которой с большой ловкостью, не задевая никого и не нанося никому неприятности даже неуместным воспоминанием, патриарх говорил: «Хотя вопрос о том, как я снова занял патриаршество, получил рассмотрение со стороны наших братий и соепископов, тем не менее и я разъясню тот же вопрос, имея перед очами самого Бога, и полагаю, что никто не отнесется с подозрением к моей речи. Я никогда не домогался патриаршей кафедры, о чем знают присутствующие здесь епископы, если не все, то большинство их, и у святейших апокрисиариев не должно оставаться сомнений в данном отношении. В первый раз я взошел на эту кафедру по принуждению: принуждал меня тогдашний император, а епископы своим избранием меня, помимо моего ведома, — усилили и увеличили это насильственное действие. Я взошел тогда на патриаршество к моему глубочайшему прискорбию». Здесь отцы собора прервали оратора заявлением: «Большая часть из нас видела это собственными глазами; а другие если и не видели собственными глазами, то знали об этом от очевидцев или на основании общераспространенных слухов. Мы утверждаем, что именно так было, как говорит Фотий». Оратор продолжал: «Но потом, по неисповедимым судьбам Божиим, я изгнан со своего места. Я не употреблял никаких стараний, чтобы снова занять кафедру патриаршую, желания быть восстановленным на ней не было у меня. Я оставался покоен, предавшись воле Божией; да если бы я и желал этого, то у меня не было ни малейших надежд. Но Бог великий и чудный коснулся сердца нашего императора, и последний обратил ко мне свою любовь, быть может, не ради меня, а ради многочисленного или, точнее, бесчисленного народа Божия. Я возвращен был из заточения в столицу. Доколе жив был блаженный Игнатий (я называю его блаженным, потому что я вступил с ним в дружбу, — этого отрицать я не стану), я не мог и думать, чтобы занять мою кафедру, хотя к этому многие увещевали меня и даже хотели понудить, и больше всего к этому шагу меня могло бы побуждать то, что братия мои и соепископы (архиереи Фотиевой партии. — A. Л.) претерпевали заточение, преследование, изгнание. Однако мы не хотели ничего предпринимать, как знают это все присутствующие». Снова прервали оратора члены собора: «Так, верно», — говорили они. Оратор продолжал: «Я делал все, чтобы достигнуть мира с Игнатием, и этот мир заключен был между нами, когда он пришел во дворец (где жил Фотий по возвращению из ссылки. — A. Л.); мы пали друг другу в ноги и просили взаимно прощения, если в чем согрешили мы друг против друга. Когда он сделался болен, я навещал его много раз, согласно его желанию, — утешал и приободрял его, сколько мог, и настолько приобрел у него доверия, что он просил меня, по его смерти, оказать попечения о лицах, к нему приближенных, и я исполнил это. Император, по смерти Игнатия, объявил мне свою волю, чтобы я занял патриаршество. Дважды приходили ко мне уполномоченные от императора звать меня на кафедру. но я не давал моего согласия и просил об одном — освободить из ссылки моих приверженцев. Тогда посетил меня сам император и своими словами принудил меня уступить. Что он тогда говорил, об этом теперь не к чему распространяться. Я нашел подкрепление своей решимости в соборных посланиях трех патриархов и в письме папы к императору. Таким образом, я занял снова патриаршую кафедру, прежде всего по божественному милосердию, затем вследствие неожиданного стечения обстоятельств и наконец по любви к справедливости папы Иоанна». Собор сказал: «Все так было, как сказал первосвященник Божий; много, много он претерпел, но Бог чудным образом соделал его архипастырем».