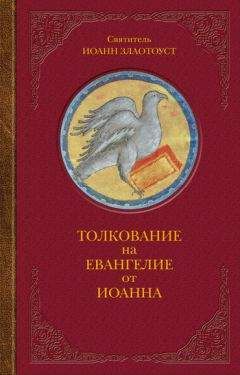И заметь благоразумие и смиренномудрие (апостола). Он не говорит уже здесь о бедствиях, какие претерпел за них, о своих трудах, о смертных опасностях, хотя бы и много мог сказать – так он чужд гордости! – но говорит только о любви своей, и просит от них взаимной любви, – "за то, что я, – говорит, – отец ваш, и сильно люблю вас". Пользующегося любовью иногда очень раздражает то, что ему напоминают о благодеяниях, – потому что он видит в этом упрек себе. Поэтому Павел и не делает так, а только говорит: "Возлюбите меня как дети отца", – что гораздо ближе к природе (человеческой), и составляет долг каждого в отношении к отцу. Потом, чтобы кто не подумал, что он говорит это для своей пользы, показывает далее, что он для их же блага желает снискать любовь их к себе, – почему и присовокупляет: "Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными" (не бывайте преложни ко иному ярму, якоже невернии) (ст. 14). Не сказал – "не смешивайтесь с неверными"; но, чтобы сильнее обличить их как нарушителей правды, говорит: не уклоняйтесь (на их пути). "Какое общение праведности с беззаконием?" (Кое бо причастие правде к беззаконию?) Здесь он делает различение уже не между своею любовью и любовью тех, которые растлевали коринфян, но между благородством последних и низостью первых. От этого и речь его сделалась важнее и сообразнее с его достоинством, а для коринфян привлекательнее. Если бы сыну, не почитающему своих родителей и предающемуся людям развратным, кто-нибудь сказал: "Что ты делаешь, дитя? ты презираешь своего отца, и предпочитаешь ему людей развратных и преданных всякому нечестию? Ужели ты не знаешь, сколько ты лучше их и благороднее?" – то такими словами он лучше бы отклонил его от общения с ними, чем когда бы стал восхвалять только отца. Так, если бы он сказал: "Ужели ты не знаешь, насколько отец твой лучше их?" – то этим ничего бы не сделал. Напротив, если он, оставив отца, укажет на превосходство пред ними самого сына, говоря: "Неужели ты не знаешь, кто ты и кто они? Как ты не подумаешь о своем благородстве и свободном происхождении, а их низости? Что у тебя общего с такими ворами, прелюбодеями, разбойниками?" – то, как бы окрылив его такими похвалами, он легко расположит его к тому, чтобы он оставил сообщество с ними. Первые увещевания он не так легко примет потому, что восхваление отца будет служить уже обвинением, поскольку именно в этом случае он представляется оскорбителем не только отца, но и такого именно отца; здесь же он ничего подобного не услышит. Притом, кто не любит похвалы? И потому самое обличение, соединенное с похвалою слушателя, бывает удобоприемлемее. Оно смягчает, возвышает дух и заставляет гнушаться сообществом с худыми людьми. Но здесь достойно удивления не только такое различение, но и то, что придумал нечто большее для возбуждения в них страха. Сперва именно он ведет речь свою чрез вопросы, что обыкновенно бывает тогда, когда говорится о чем-нибудь для всех известном и очевидном; потом же распространяет ее многими и различными наименованиями. Не одно, в самом деле, не два и не три, но многия наименования (сравниваемых) вещей полагает пред глазами слушателей, чтобы с одной стороны изобразить высоту добродетелей, а с другой – крайнюю низость порока, и чрез великое, даже бесконечное между ними расстояние показывает, что дело не требует более никакого доказательства. "Какое общение, – говорит, – праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами?" (Кое бо причастие правде к беззаконию? Кое же общение свету ко тьме? Кое же согласие Христови с Велиаром? Или кая часть верну с неверным? Или кое сложение церкви Божией со идолы?" (ст. 15, 16).
3. Смотри, какие простые, а между тем достоточные слова употребляет (апостол) для отвращения (коринфян он ярма неверных). Не сказал он: "(какое общение у праведности) с противозаконием (παρανομία)", но гораздо сильнее ("с беззаконием" – ανομία). Равным образом не сказал: "(какое общение) у находящихся во свете с пребывающими во тьме", но противополагает самые вещи, противные между собой и одна другую отвергающие, т. е. свет и тьму. Не сказал также: "(какое согласие) между последователями Христа и чадами диавола", но – что гораздо бóльшую обнаруживает противоположность – между Христом и Велиаром, – еврейским именем назвав этого отступника. "Какое соучастие верного с неверным?" (Или кая часть верну с неверным?) Чтобы кто не подумал, что он просто лишь обвиняет зло и похваляет добродетель, он здесь указывает уже и лица, хотя и неопределенно. И не сказал: "какое общение", но – какие награды, назвав их "частию" (μερίς). "Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живаго" (Кое сложение церкви Божией со идолы? Вы бо есте церковь Бога жива). Смысл этих слов такой. "Царь ваш не имеет ничего общего с диаволом ("Какое согласие между Христом и Велиаром?"); ничего общего не имеют между собою и дела их ("Что общего у света с тьмою?"). Потому и у вас не должно быть никакого общения с ним (диаволом?)". Апостол прежде указывает на царя, а потом уже на них, – чтобы тем скорее отвлечь их от диавола. Далее, сказав: "Какая совместность храма Божия с идолами?" и присовокупив: "Ибо вы храм Бога живого", (апостол) почел нужным привести и свидетельство на это, желая показать, что эти слова не простая лесть, – так как кто хвалит, не представляя на то причин, о таком могут подумать, что он льстит. Какое же (он приводит) свидетельство? "Вселюся в них и похожду", – т. е. "вселюсь в храмах этих и в них буду ходить", показывая тем великое к ним благоволение, – "и буду вашим Богом, а вы будете Моим народом" (и будут Мне в людие, и Я буду им в Бога). (Лев. 26: 12). "Для чего же, – говорит, – ты, нося в себе Бога, бежишь к идолам, – Бога, Который не имеет с ними ничего общего? Такой поступок достоин ли какого-нибудь извинения? Помысли, кто в тебе живет и обитает с тобою". "И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас" (Темже изыдите от среды их и отлучитеся, и нечистот не прикасайтеся: и аз прииму вы, глаголет Господь) (ст. 17). Не сказал: "не творите нечистоты"; но, требуя от них большой точности, сказал: "даже не прикасайтесь и не приближайтесь к ней". Что же составляет нечистоту плотскую? Блуд, прелюбодеяние и всякое плотоугодие. А душевную? Нечистые помыслы, сладострастный взор, памятозлобие, обманы и тому подобное. Он желает, чтобы мы были чисты и от той и от другой нечистоты. Смотри, вот и награда за то, – отделение от нечестивых и соединение с Богом. Но послушай еще далее: "И буду вам Отцем, и вы будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь" (и буду вам во отца, и вы будете Мне в сыны и дщери, глаголет Господь) (Иерем. 3: 19). Видишь, как пророк издревле уже предсказал о настоящем благородстве нашем, т. е. о возрождении благодатию. "Итак, возлюбленные, имея такие обетования" (Сицева убо имуще обетования, о возлюбленнии) (7: 1). Какие? То, что мы сделались храмами для Бога, сынами и дщерями Его, что Он вселяется и обитает в нас, что мы стали Его народом и Его именем Богом и Отцом своим. "Очистим себя от всякой скверны плоти и духа – не будем прикасаться к нечистоте", – это именно и означает "скверна плоти", – и к тому, что грязнит душу, – это именно и значит "скверна духа". Этим одним, однако, он еще не довольствуется, и потому присовокупляет: "совершая святыню в страхе Божием". Одно неприкосновение к нечистому еще не делает чистым; чтобы сделаться нам святыми, для этого потребно и нечто другое, – именно ревность, бодрствование и благочестие. И хорошо сказал он: "в страхе Божием", потому что можно сохранять целомудрие и не в страхе Божием, но для суетной славы. Впрочем, он имел еще и другое в виду, когда сказал: "в страхе Божием, именно – способ, которым достигается святость. Действительно, как ни велика сила похоти, но если ты оградишь себя страхом Божиим, то победишь ее неистовство. Под "святынею" же он разумеет здесь не одно целомудрие, но и удаление от всякого греха, потому что свят тот, кто чист, а чист не тот, кто не творит только блуда, но кто чужд вместе и сребролюбия, и зависти, и надменности, и тщеславия, – особенно же тщеславия, которого и всегда нужно убегать, а более всего при подаянии милостыни. Милостыня, зараженная этой болезнью, перестает быть уже и милостыней, а является хвастовством и жестокосердием.
Действительно, когда ты подаешь милостыню не из милосердия, но для того, чтобы показать себя, тогда она не только не есть милостыня, но даже является обидой, потому что ты выставляешь на позор своего брата. Милостыня состоит не в том, чтобы только давать деньги, но чтобы давать с чувством милосердия. И на зрелищах дают деньги – и распутным отрокам и другим, появляющимся на сцене; но это не милостыня. И блудники дают деньги блудницам; но это – дело не человеколюбия, а пьяного бесчинства. Им-то подобен и тот, кто (подает милостыню) из тщеславия. Подобно тому, как оскверняющийся с блудницею дает ей награду за наносимую ей обиду, так и ты, подавая милостыню из тщеславия, только награждаешь принимающего ее от тебя за причиняемую ему обиду, и чрез это создаешь и себе и ему худую славу, а отсюда невыразимый вред. Как лютый зверь и бешеный пес нападают на всех, так этот злой недуг бесчеловечия похищает у нас наши блага. Такая милостыня, подлинно, есть бесчеловечие и жестокость, или еще хуже того. Жестокосердый только сам не дает просящему, а ты хуже его делаешь, – ты препятствуешь подавать желающим подать. В самом деле, когда ты всем выставляешь напоказ свое подаяние, то этим приводишь в сомнение бедность принимающего дар твой, и тем удерживаешь от подаяния намеревающегося подать, особенно если он человек легкомысленный. Такой человек уже не подает просящему, как уже получившему подаяние и не особенно нуждающемуся, и мало того, – еще будет порицать его и обличать в бесстыдстве, когда он, получив от тебя милостыню, придет и к нему просить.