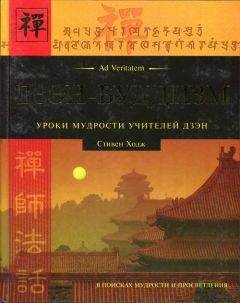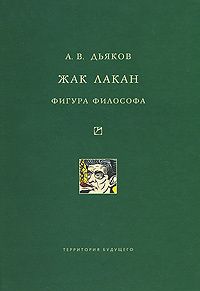Опыт перверсии позволяет нам углубить понимание того, что можно с полным основанием назвать термином Спинозы человеческой страстью, где человек открыт тому разделению с самим собой, которое структурирует воображаемое, то есть зрительное отношение в промежутке от О до О'. Такой опыт и в самом деле открывает перспективу более глубокую, ибо в этом зиянии человеческого желания выявляются все нюансы, от стыда до престижа, от шутовства до героизма, в которых человеческое желание целиком открыто на встречу и отдано на милость желанию другого.
Вспомните изумительный анализ гомосексуальности, развертывающийся у Пруста в мифе об Альбертине. Неважно, что персонаж здесь женского пола — структура отношения представляет гомосексуальность великолепно. Требование такого стиля желания может быть удовлетворено лишь неустанной охотой за желанием другого, вплоть до снов его, которое преследует субъект в собственных снах, что подразумевает ежесекундное и полное отклонение от собственного желания другого. Перед нами фокус, зеркало-обманка, которое в каждый миг совершает полный оборот вокруг собственной оси — субъект изматывает себя преследованием желания другого — желания, которое он никогда не сможет уловить как свое собственное, поскольку его собственное желание является желанием другого. Он преследует себя самого. Вот где заложена драма этой ревнивой страсти, являющейся также формой воображаемого интерсубъективного отношения.
Интерсубъективное отношение, лежащее в основе перверсивного желания, поддерживается лишь сведением на нет либо желания другого, либо желания субъекта. Оно уловимо лишь в пределе, в моменты тех превращений, смысл которых проблескивает лишь на мгновение. Можно сказать — вдумайтесь хорошенько в эти слова, — что как для одного, так и для другого подобное отношение разлагает бытие субъекта. Бытие другого субъекта сводится лишь к тому, чтобы быть инструментом первого, и соответственно, остается лишь один субъект как таковой, да и тот существует лишь как идол, предоставленный желанию другого.
Перверсивное желание опирается на идеальность неодушевленного объекта. Однако оно не может довольствоваться осуществлением такого идеала. С тех пор, как желание осуществляет такой идеал, в момент слияния с ним, желание теряет свой объект. Таким образом, желанию суждено, в силу самой структуры его, утолиться еще прежде любовного объятия, виной чему будет либо угасание желания, либо исчезновение его объекта.
Я подчеркиваю исчезновение, поскольку именно в такого рода анализе вы можете отыскать тайный ключ aphamsis'a., о котором говорит Джонс, пытаясь понять, с чем он имеет дело по ту сторону комплекса кастрации, в опыте некоторых детских травм. Однако тут мы теряемся в чем-то таинственном, поскольку мы не находим здесь плоскости воображаемого.
В конечном итоге, значительная часть аналитического опыта представляет собой ни что иное, как исследование тупиков опыта воображаемого, их продолжений, которые не бесчисленны, поскольку основываются они на самой структуре тела, которая задает определенную конкретную топографию. В истории субъекта, или, скорее, в его развитии, появляются некоторые плодотворные, временем обусловленные моменты, когда вскрываются различные стили фрустрации. Моменты эти задаются проявляющимися в развитии субъекта полостями, пробелами, зияниями, Когда нам говорят о фрустрации, всегда что-то остается упущенным. По причине какой-то натуралисткой склонности языка, когда наблюдатель воссоздает естественную историю ему подобного, он упускает отметить нам, что субъект ощущает фрустрацию. Фрустрация не является феноменом, который мы могли бы объективировать в субъекте под видом отклонения акта, его с этим объектом соединяющего. Это не животная неприязнь. При всей преждевременности своего рождения, субъект сам воспринимает плохой объект как фрустрацию. И одновременно фрустрация ощутима в другом.
Здесь имеет место взаимное отношение сведения на нет, смертельная вражда, структурированная двумя безднами, — либо угасает желание, либо исчезает объект. Вот почему я все время обращаюсь к диалектике господина и раба и заново ее объясняю.
Отношение господина и раба является примером-пределом, поскольку, конечно же, регистр воображаемого, где оно разворачивается, появляется лишь на пределе нашего опыта. Аналитический опыт имеет свои границы. Он определен в плоскости, отличной от воображаемой, — в символической плоскости.
Межчеловеческая связь останавливает на себе внимание Гегеля. Исследование его затрагивает не только общество, но и историю. Он не может пренебречь ни одной из граней. А одной из важнейших сторон межчеловеческой связи, помимо сотрудничества между людьми, помимо пакта, любовной связи, является борьба и труд. Именно на этом аспекте сосредоточивает внимание Гегель, чтобы структурировать в исконном мифе основополагающее отношение, причем в той плоскости, которую он сам определяет как негативную, отмеченную негативностью.
Человеческое общество отличает от общества животного термин, нисколько меня не пугающий, — то, что оно не может быть основано ни на какой объективируемой связи. Интерсубъективное измерение должно войти сюда именно как таковое. Итак, в отношении господина и раба речь идет не о закабалении человека человеком. Одного этого не достаточно. Но что же лежит в основе такого отношения? Вовсе не то, что признавший себя побежденным кричит и просит пощады, а то, что господин вовлекся в эту борьбу из чистого престижа и рисковал своей жизнью. Именно этот риск устанавливает его превосходство, и во имя этого, а не во имя его силы, раб признает его господином.
Данная ситуация начинается с тупика: признание со стороны раба не имеет для господина никакого значения, поскольку тот, кто его признает, является лишь рабом, а значит тем, кого он сам не признает человеком. Соответственно, исходная структура такой гегелевской диалектики представляется тупиковой. И вы видите ее сходство с тупиковостью воображаемой ситуации.
Однако ситуация развертывается далее. Ее исходная точка, будучи воображаемой, является мифической. Однако ее продолжение вводит нас в плоскость символического. Продолжение вам знакомо — именно оно позволяет говорить о господине и рабе. Исходя из мифической ситуации организуется действие и устанавливается отношение наслаждения и труда. Рабу предписывается закон — раб должен удовлетворять желание и обепечивать наслаждение другого. Недостаточно, чтобы он просил пощады, нужно, чтобы он ходил работать. А если человек ходит на работу, существуют правила и часы — вводится область символического.
При ближайшем рассмотрении вы заметите, что эта область символического не вытекает непосредственно из области воображаемого, опирающейся на интерсубъективное отношение смертельной угрозы. От одной области к другой мы переходим не посредством скачка из предшествующего в последующее, вслед за пактом и символом. В действительности и сам миф может мыслиться лишь будучи уже обрисованным регистром символического, по причине, о которой я только что говорил, основание ситуации не может быть заложено в какой-то предсмертной биологической панике. Смерть ведь никогда не может быть испытана как таковая, она никогда не является реальной. И человек всегда страшится лишь страхом воображаемым. Но это еще не все. В гегельянском мифе смерть даже не структурирована в качестве страха, она структурирована как риск, а точнее, как ставка. То есть между господином и рабом изначально существует некоторое правило игры.
Сегодня я не стану останавливаться на этом. Я говорю это лишь для самых восприимчивых — интерсубъективное отношение, развертывающееся в воображаемом, в то же время имплицитно включено в некоторое правило игры, в той мере как данное отношение структурирует человеческое действие.
Рассмотрим еще раз, уже в ином ракурсе, отношение ко взгляду.
Речь пойдет о войне. Я продвигаюсь по равнине и предполагаю, что за мной установлено наблюдение, т. е. как бы чувствую на себе взгляд. Подобное мое предположение не столько означает, что я опасаюсь каких-либо действий противника, какой-либо атаки — ведь тогда бы ситуация тут же разрядилась и я узнал бы, с кем имею дело. Важнее всего для меня знать, что другой воображает и замечает в отношении того, что намерен предпринять я, поскольку мне необходимо скрыть от него свои передвижения. Речь идет о военной хитрости.
Вот в какой плоскости лежит диалектика взгляда. Имеет значение не то, что другой видит мое местонахождение, а то, что он видит, куда я иду, а точнее, что он видит, где меня нет. В любом анализе интерсубъективного отношения главное не то, что рядом, не то, что видно. Структурирует интерсубъективное отношение как раз то, что не присутствует явно.