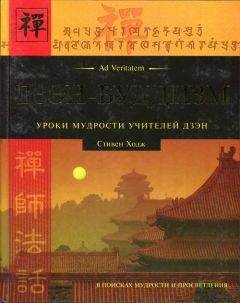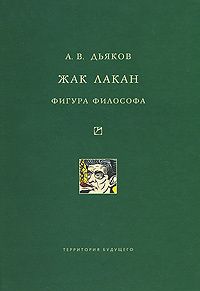Д-р Леклер: — Задавая вам такой вопрос, я хотел ликвидировать эту недосказанность. Говоря в прошлый раз о переносе, вы упомянули три основополагающие страсти, и среди них незнание. Вот к чему я хотел прийти.
В прошлый раз я хотел в качестве третьего измерения ввести в символическое отношение пространство или, скорее, объем человеческих связей. Совершенно умышленно я впервые заговорил о гранях страстей лишь в прошлый раз. Как замечательно подчеркнула своим вопросом г-жа Обри, это точки стыков, точки разрыва, водораздел между различными областями, где простираются межчеловеческие отношения, реальное, символическое, воображаемое.
Любовь отличается от желания, рассматриваемого как предельное отношение, устанавливающееся у всякого организма к объекту, его удовлетворяющему. Ведь целью любви является не удовлетворение, а бытие. Поэтому о любви можно говорить лишь там, где уже существует символическое отношение как таковое.
Теперь нужно научиться отличать любовь как воображаемую страсть от активного дара, конституируемого ею в плоскости символического. Любовь, любовь того, кто желает быть любимым, является по сути попыткой захватить другого в ловушку себя самого, в себе самом как объекте. Если вы помните, то в первый раз, когда я довольно подробно говорил о нарциссической любви, я лишь продолжал диалектику перверсии.
Желание быть любимым — это желание захватить, заманить любящий объект, закабалить его в абсолютной особенности себя самого как объекта. Хорошо известно, что тот, кто стремится быть любимым, не слишком бывает доволен, когда его любят за его достоинства. Его требование быть любимым простирается вплоть до полного низведения субъекта в нечто частное, особенное, со всем тем, что может в нем оказаться самого туманного и немыслимого. Ведь хотят быть любимым за все — не только за свое собственное Я, как говорит Декарт, но и за цвет своих волос, за свои причуды, за свои слабости, за все.
И наоборот, хотя, пожалуй, именно по этой причине, любить значит любить существо, помимо всего того, чем оно является в его видимом существовании. Активный дар любви имеет целью другого не в его особенности, а в его бытии.
О. Маннони: — Это слова Паскаля, а не Декарта.
Лакан: — У Декарта есть отрывок о постепенном очищении Я от всех особенных качеств. Но ваше замечание справедливо, так как именно Паскаль пытается вывести нас по ту сторону тварного.
О. Маннони: — Он говорит это прямо.
Лакан: — Да, но у него это жест отказа.
Любовь, уже не как страсть, но как активный дар, всегда нацелена по ту сторону воображаемого пленения, на бытие любимого субъекта, его своеобразие. И поэтому она может принять многое из его слабостей и странностей, может даже допуститьего ошибки, но есть и предел этому, точка, определяемая лишь бытием — когда любимое существо заходит в предательстве самого себя слишком далеко и упорствует в самообмане, любовь отступает.
Эту феноменологию, намечаемую опытом, я не собираюсь здесь развивать. Скажу лишь, что в качестве одной из трех разделительных линий, предполагаемых символической реализацией субъекта в речи, любовь направлена на бытие другого. Без речи, поскольку она утверждает бытие, может быть только Verliebtheit, воображаемое завораживание, но не любовь. Человек может испытать влюбленность, но не совершит активного дара любви.
То же самое и с ненавистью. О воображаемом измерении ненависти мы говорим в силу того, что разрушение другого является одним из полюсов самой структуры интерсубъективного отношения. Именно в этом, как я замечал вам, Гегель видит тупик в сосуществовании двух сознаний, откуда он и выводит свой миф борьбы из-за чистого престижа. Уже здесь воображаемое измерение определяется рамками символического отношения, и поэтому ненависть не может быть удовлетворена исчезновением соперника. Если любовь стремится к развитию бытия другого, то ненависть хочет обратного, его падения, утраты им ориентиров, извращения, исступления, полного отрицания, ниспровержения. В этом смысле ненависть, как и любовь, является безграничным поприщем.
Возможно, вам это понять несколько сложнее, потому что, из-за причин, не столь отрадных, как вы могли бы подумать, в наши дни чувство ненависти нам знакомо меньше, чем в те времена, когда человек был более открыт своей судьбе.
Конечно, не так давно мы имели случай наблюдать вполне достойные его проявления. И все же, в наши дни людям не приходится усваивать переживание ненависти слишком жгучей. Почему же? Потому что мы и так с избытком представляем собой цивилизацию ненависти. Разве дорога к разрушению плохо у нас проторена? В нашем обыденном дискурсе встречается немало предлогов, скрывающих под своей личиной ненависть, и для нее находятся чрезвычайно удобные рационализации. Быть может, именно эта повсеместная флоккуляция ненависти и насыщает в нас призыв к разрушению бытия. Как если бы объективация человеческого бытия в нашей цивилизации в точности соответствовала тому, что в структуре эго является полюсом ненависти.
О. Маннони: — Западный морализм.
Лакан: — Совершенно верно. Ненависть находит здесь пищу в объектах повседневности. Только не следует думать, будто она отсутствует во время войн: для привилегированных субъектов она бывает там полностью реализована.
Вы должны понять, что говоря о любви и ненависти, я обозначаю пути реализации бытия, не саму реализацию, но лишь ее пути.
Но если субъект пускается в изыскание истины как таковое, то делает он это именно потому, что находится в измерении неведения — независимо от того, известно это ему или нет. Вот один из элементов того, что аналитики называют "readinesstthetransference", готовностью к переносу. Пациент готов к переносу уже благодаря тому факту, что он занимает в речи позицию признания и поиска своей истины — поиска, в котором он идет до конца, того конца, что находится у аналитика. При этом неведение аналитика тоже достойно внимания.
Аналитик не должен игнорировать то, что я назвал бы способностью достижения бытия другого из измерения неведения, поскольку аналитику приходится отвечать тому, кто всем своим дискурсом вопрошает его в этом измерении. Аналитик должен вести субъекта не к некоторому Wissen, знанию, но к пути достижения такого знания. Он должен вовлечь его в диалектическую операцию, но не говорить ему, что он обманывается, поскольку так или иначе пребывает в заблуждении, а показать ему, что он плохо говорит, то есть говорит не зная, как невежда, ибо именно пути его заблуждения имеют тут значение.
Психоанализ — это диалектика и то, что Монтень в восьмой главе своей третьей книги называет "искусством беседы". Сократовское искусство беседы в "Меноне' состоит в том, что раба учат придавать своей собственной речи ее истинный смысл. Подобное же искусство присуще и Гегелю. Другими словами, позиция аналитика должна быть позицией ignorantiadocta, где docta означает, не научное, а формальное, и которое может стать для субъекта фактором его формирования.
Велико искушение, поскольку оно соответствует духу времени, времени ненависти, — преобразовать ignorantiadocta в то, что я назвал, и не вчера, ignorantiadocens. Если психоаналитик полагает, что знает нечто, в психологии например, он уже готовит свое поражение, по той простой причине, что в психологии никто ничего особенного не знает, разве лишь то, что сама психология есть не что иное, как искажения перспективы человеческого бытия.
Мне придется прибегнуть к банальным примерам, чтобы показать вам, что такое реализация бытия человека, потому что помимо вашей воли вы помещаете ее в ошибочную перспективу ложного знания.
И тем не менее вы должны заметить, что когда человек говорит, "я есть" или "я буду", а тем более "как только я стану" или "я хочу быть", всегда налицо какой-то скачок, зияние. Сказать применительно к реальности "я — психоаналитик", так же нелепо, как и сказать "я — царь". И первое, и второе суть утверждения совершенно приемлемые, но мерой способностей их обосновать нельзя. Символическое узаконивание, в результате которого один человек принимает на себя то, что передают ему другие, совершенно не связано с признанной привилегией обладания той или иной способностью.
Отказ быть царем имеет совершенно иную ценность, нежели согласие. Благодаря самому факту отказа, человек не является царем. Он просто мелкий буржуа — как например герцог Виндзорский. Если тот, кого готовы удостоить короны, говорит: "Я хочу жить с женщиной, которую я люблю", — он остается тем самым по эту сторону области бытия царем.
Но когда человек говорит — и говоря это, он и есть, благодаря определенной системе символических отношений то, что говорит — "я есть царь" — это не простое принятие на себя определенной функции. Это мгновенно меняет смысл всех его психологических квалификаций. Это придает его страстям, замыслам, а также и глупости совершенно иной смысл. Все его функции становятся, вследствие одного того факта, что он царь, царскими функциями. В регистре царствования его умственные способности становятся совершенно иными, а его бездарность приводит к поляризации, структурированию вокруг него целогоряда судеб, обусловленных отныне тем, что царская власть будет приводиться в исполнение определенным способом, определенным лицом, которому эта власть была пожалована.