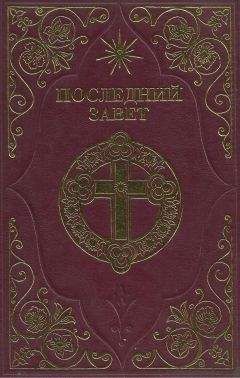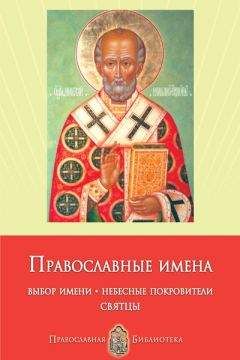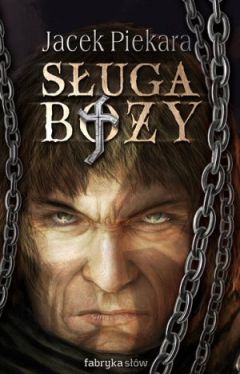Так что, если вы можете с детьми петь, чтобы они с радостью просто пели молитвы – пойте; потому что может случиться, что рано или поздно, не в таком трагическом контексте, но в каком-то контексте это им даст возможность выжить. Иногда у тебя не хватает силы на слова, а мелодия поется как бы внутри. Для слов нужна сосредоточенность, нужно за них держаться, нужно внимание; а когда чувствуешь, что у тебя никаких сил нет, что никаким образом внимание не соберешь, то мелодия все-таки остается. И за мелодией слова продолжают жить, и через мелодию к словам можно дойти, когда через слова никуда не доходишь, потому что до слов-то не добраться. Так что это очень важно. Если вы можете, пойте с детьми ту или другую молитву. Есть простые молитвы, – «Отче наш», «Богородице Дево», «Достойно есть» и те или другие молитвы из богослужения, которые, во-первых, доступны ребенку и, во-вторых, которые можно спеть…
– А допустимо ли псалмы читать на русском языке? Уже во многих изданиях они по-русски печатаются…
– Конечно! Вообще перейти в богослужении на русский язык – это сложная проблема, потому что, помимо точности текста, нужна красота. Если бы этот текст переводился Пушкиным, это было бы одно; когда это переводится кем-нибудь, кто просто хочет перевести и знает язык, иногда текст может потерять всю красоту и дойти до удивительной плоскости. А молитва человека трогает не только объективным смыслом слов, но и поэзией слов. Вы, наверно, знаете пушкинское переложение молитвы «Господи и Владыко живота моего…». На славянском языке, может быть, не все так понятно, а в переводе Пушкина все совершенно ясно; правда, не точно в том же порядке, но все передано. И если какой-нибудь настоящий писатель перевел бы, то ничего. Но иногда думаешь: Господи, такая красота в этих словах – и они переведены так плоско!.. Поэтому я думаю, что если ребенку передавать, читать, скажем, псалмы на русском языке, то надо самим заглянуть в славянский или в какой-нибудь другой язык и посмотреть – те или другие слова русского перевода передают ли глубину и красоту того, что здесь сказано? И может быть, сказать ребенку: вот это русское слово, но оно обеднело, оно ограничено теперь, а в славянском или в древних языках охватывало больше, и дать ребенку уловить именно широту, глубину этого слова.
– В армии солдаты выписывали 90-й псалом и на славянском, и на русском, и чаще на славянском…
– В славянском есть красота и ритм, которые очень трудно перевести. В богослужении есть места, которые непонятны только из-за этого, например, некоторые места в каноне Андрея Критского. В одном месте говорится о «тристатах». Что значит «тристаты» для людей, которые стоят? – ничего не значит. В точном переводе это значит «тройка». Сказать в богослужебном тексте «тройка» не очень удобно. Я слово «тристаты» всегда заменял словом «колесницы»: и всякий понимает, и тексту не обидно. Другое место есть, которое ничего не значит просто, потому что оно переведено точно с греческого языка в порядке греческих слов, только на греческом языке окончатся непохожие, тоща как на русском языке одни и те же, и просто ничего не понять. Я на этих словах написал номера и, когда читаю вслух, читаю: раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь, и вдруг оказалось, что понятно, потому что в таком порядке их можно понять.
А уж говоря о том, как можно просто ничего не понять и умилиться – тоже, знаете, есть анекдот русский. Старушка говорит батюшке: «Знаете, меня всегда так трогает, что в православной церкви и зверей поминают». Батя удивился: «А каких там зверей поминают?» – «Ну как же! На каждой всенощной я стою и плачу от умиления, когда доходит до слов: я крокодила пред Тобою» (знаете, поют: «Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою»). Старушка-то умилялась, это ей на пользу шло в каком-то смысле, но все-таки необязательно свое благочестие выражать в такой форме. И есть такие места, которые просто непонятны, которые надо переводить, переделывать незаметно. Необязательно весь текст переделать, а заменить одно слово или как-то его переместить, чтобы оно доходило бы до людей.
А вы что скажете?
– Я сыну просто сказала: «Саша, ты знаешь, что я утром и вечером читаю молитвы, хочешь, тоже читай. Давай, первое время ты со мной будешь просто стоять». Но он был еще маленький. И я брала самые простейшие молитвы – «Отче наш», «Богородице Дево», из вечерних конечные – «В руки Твои предаю дух мой». Сначала стоял просто слушал, потом стал со мной повторять. Ему было трудно воспринимать на славянском, но потихоньку выучил «Отче наш». Но он обычно говорит: «Мама, давай вместе». Первое время он только со мной и даже читал при мне. А потом, когда я смотрю, это вошло в него, даже если я утром не успеваю, я ему говорю: «Саша, ты без меня прочитай «Отче наш». И вообще, говорю, не обязательно, но лучше, когда ты утром или вечером встаешь, лучше стать перед образом, собраться, что ты предстал перед Богом, и отдать Ему все, что у тебя внутри. А если у тебя что-то другое, ты не можешь, скажем, в этот момент стоять перед образом, то просто в душе помолиться. Потом и в течение дня можно вспоминать о молитве, просто «Господи, помилуй» сказать. А потом – я вечером встала на молитву, он один раз пришел: можно я постою? И я стала читать все молитвы, как обычно. И ему сказала: если устанешь, можешь не стоять до конца, постой, сколько тебе хочется. А сама думала: или он хочет мне угодить? Не знаю. Последний раз, как-то утром на утренние молитвы я стала, говорю: хочешь, постой со мной. Он тоже стоял. Обычно, когда он стоит, он сам читает «Отче наш», то, что он знает. И когда я закончила, я спросила: «Саша, а ты понял все, что я читала?» – «Нет, не все…» Постепенно хочется, конечно, чтобы он знал, но не хочется насильно…
– Насильно лучше ничего не внедрять, потому что оно потом уходит. А даже если он не все понимает – ему хватает того, что он понимает, – потому что мы тоже не все понимаем. Мы не можем хвастаться, что когда мы говорим: «Отче наш», нам все понятно. То есть слова понятны, но глубины в них больше, чем мы можем воспринять.
Вопрос внимания при молитве: иногда читаешь по книге и мысли не собрать. Не то что вовсе о постороннем думаешь, но в душе другое хочется сказать Богу, не по книжке…
Знаете, иногда начинаешь молиться или думать о Боге, и вдруг тебя куда-то уносит. И это может быть важнее, чем на четвереньках ползти дальше: это значит, что ты куда-то ушел, не от Бога, а в какие-то глубины свои. Мне кажется, что это очень важно.
И потом очень важно научиться быть в присутствии Божием. Искусственно этого не сделаешь, то есть нельзя просто сказать: вот я сейчас нахожусь перед Богом. Это воспринять нутром не всегда легко, но с детьми одно можно сделать. Я помню одну преподавательницу в Париже, которая занималась маленькими детьми. Она их хотела научить тому, что молчание и тишина – это не пустота. И когда они разыгрывались в классе, она вдруг хлопала в ладоши: «Тсс! Слушайте тишину». – И все дети останавливались, и они это воспринимали, потому что до того был шум, и вдруг тишина настала, и они воспринимали эту тишину как что-то реальное, не то что «отсутствие шума»: нет, среди шума есть тишина, она где-то кроется в нем. И я думаю, что, если суметь ребенку дать воспринять, что можно войти в тишину или можно ее воспринять, «услышать» каким-то образом, это тоже для него может играть роль. Потому что Божие присутствие, в конце концов, и среди шума можно воспринять, если ты умеешь добраться до той тишины, которую шум не может заглушить, которая там есть все равно. Когда мы говорим «Христос посреди нас», – Он есть. Мы можем Его не слышать, не замечать, потому что мы сами в буре, что ли. А в середине… Вы помните рассказ о том, как ученики Христовы отчалили от одного берега Генисаретского моря и поплыли на другую сторону, и вдруг началась буря, волнение вод, и вдруг они увидели Христа, идущего посреди этой бури. Мне всегда представляется, что Христос был в том месте этой бури, где встречались все ветры, все силы бури, и Он стоял как знак равновесия. И если бы Петр не вспомнил о себе самом и о том, что он может потонуть, и дошел бы до Христа, он вдруг заметил бы, что в середине бури совершенная тишина. Точка, где все силы встречаются, и уже движения нет, потому что они встретились.
– У меня не то что вопрос… Я могу стать на молитву и прочитать что положено, ну, иногда, слава Богу, молюсь с сердцем, но чаще всего я себя ловлю (причем далеко не сразу себя поймала) на том, что не могу сосредоточиться. Мало сказать себе: хорошо, я сосредоточусь усилием воли. Я начинаю зевать. И я нашла такой способ, что проснусь, скажу «Доброе утро» Господу, еще что-то очень короткое, а потом начинаю ходить, делать свои дела и разговаривать, как можно разговаривать с родным человеком, с которым в одной комнате находишься. Читаю, конечно, молитвы, но больше именно разговариваю.
– Видите ли, молитвы, которые у нас есть, это разговор этих людей с Богом.