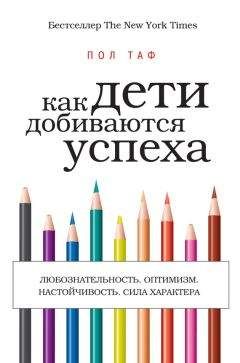Дозье говорила о Маше с чувством, близким к благоговению, как будто он был неким преступным Свенгали[4]. Гейтс поведал мне, что даже взрослые мужчины боялись его до смерти. Его мама, разумеется, была не столь впечатлена его бандитской репутацией; зато получала огромное удовольствие, рассказывая мне, как она в детстве покупала ему нижнее белье с Артуром, мультяшным персонажем, чтобы отвадить своего сына от постоянной привычки стягивать брюки.
И все же, когда подошло время нашей встречи, я немного нервничал; ощущение было такое, будто мне предстоит познакомиться со знаменитостью. Однако при личной встрече Маш показался мне похожим на любого среднестатистического подростка-южанина, только помельче – не более 152 см ростом, худенький даже после 8 месяцев отжиманий, – и у него была почти чаплинская походочка на негнущихся ногах, с широко развернутыми носками. На шее он носил нитку четок, на лоб была низко надвинута бейсболка клуба «Янки», а большой не по росту пиджак мог с легкостью вместить двух или даже трех таких пацанов.
Мы отправились ужинать на Вестерн-авеню, ели яичницу, пили кофе и беседовали. Как и все его друзья, Маш рос в семье с матерью-одиночкой, женщиной, которую Гейтс описал мне как «прекрасного человека, но не слишком одаренного воспитательными навыками». В биографиях его родственников было немало насилия и проблем с законом, и Маш отбарабанил мне длинный послужной список своих братьев, сестер, кузенов, кузин и других родственников, которые уже погибли или сидели в тюрьме. Когда ему было 9 лет, сказал мне Маш, его дядя был застрелен в его собственном доме.
– Вот я страху-то натерпелся! – говорил он. – Это случилось прямо у меня на глазах.
Пока мы разговаривали, я обнаружил, что молча подсчитываю его индекс ACE, и каждая детская травма поднимала планку на один пункт выше.
Личная история Маша отличалась от истории Мониши Салливан только в деталях: в детстве он чаще бывал свидетелем насилия, чем она, зато семейные проблемы, с которыми сталкивалась девочка, были более глубинными – брошенная матерью, разлученная с отцом, проведшая все детство и отрочество в приемных семьях. Однако детство обоих было полно безжалостных стрессов, и каждый из них был травмирован этими стрессами глубоко и надолго.
Хотя ни один из них не имел возможности (или желания) поучаствовать в тех измерениях аллостатической нагрузки, которые проводили Макъюэн, Эванс, Шемберг и другие исследователи этой темы, мы вполне можем себе представить – если бы они это сделали, то их данные оказались бы из ряда вон выходящими.
И все же, несмотря на то что вред, причиненный их телам и мозгу детскими травмами, был вполне сравнимым, в том, как это проявлялось в их жизни, была огромная разница.
Мониша приняла этот стресс и перевела его внутрь, где он проявился как страх, тревожность, печаль, сомнение в себе и саморазрушительные наклонности. А Маш, наоборот, обратил его вовне – в драки, вызывающее поведение в классе и со временем целый ряд нарушений закона.
Маш рано начал влипать в неприятности: его выгнали из начальной школы за драку с директором. Но его поведение существенно ухудшилось, когда ему исполнилось 14 лет, и его брат, который пошел в армию, чтобы избежать насилия, царившего в Саутсайде, был застрелен в ходе вооруженного ограбления недалеко от своей базы в Колорадо-Спрингс.
– Это и сорвало мне крышу. После этого мне на многое стало наплевать, – рассказывал мне Маш.
По словам подростка, единственный способ, которым он мог избавиться от боли, вызванной смертью брата, были бандитские выходки.
– Я слишком многое держал в себе, – говорил он. – Я был похож на ходячую часовую бомбу. И, чтобы прочистить мозги, просто шатался по кварталу, занимался разными делишками, играл с оружием и все такое.
Ученые из Северо-Западного университета недавно провели психологические исследования более чем 1000 юных подопечных Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей графства Кук в Чикаго – исправительного заведения, в котором большинство учащихся YAP побывали хотя бы по разу.
Исследователи выяснили, что 84 процента детей имеют на своем счету серьезные детские травмы – две или более, а у большинства таких травм было шесть или больше. Три четверти собственными глазами видели, как кого-то убили или серьезно ранили. Более 40 процентов девушек подвергались сексуальному насилию в детском возрасте. Более половины мальчиков заявили, что по меньшей мере один раз в своей жизни побывали в ситуациях настолько опасных, что думали, что они сами или их близкие вот-вот погибнут или будут серьезно ранены.
И эти неоднократные травмы оказывали разрушительное воздействие на умственное здоровье юных арестантов: у двух третей юношей были диагностированы психические расстройства. В учебе они сильно отставали от большинства: их средние результаты по стандартизированному словарному тесту не превышали одной пятой от возможного балла, что означало, что они не дотягивали до результатов 95 процентов их сверстников в среднем по США.
Беседуя с Машем и другими юными жителями Роузленда, я часто обнаруживал, что раздумываю об исследованиях в области неврологии и стрессовой психологии, которые настолько изменили взгляды Надин Берк-Харрис. Как-то раз днем мы с ней объезжали жилые кварталы Бэйвью-Хантерс-Пойнт, периодически ловя на себе взгляды молодых людей, кучковавшихся на углах улиц, и Берк-Харрис говорила так, словно воочию видела приливы и отливы кортизола, окситоцина и норадреналина в их телах и мозге:
– Когда смотришь на этих детей и их поведение, все это может казаться таким непонятным, – говорила она. – Но на каком-то уровне то, что мы видим – всего лишь сложная последовательность химических реакций. Выработка протеина или активация нейрона. А что в этом самое потрясающее, так это то, что такие вещи поддаются лечению – как только опускаешься на уровень молекул, осознаешь, где именно кроется исцеление. Именно там и обнаруживается решение.
Исследователи выяснили, что 84 процента детей имеют на своем счету серьезные детские травмы.
Берк-Харрис поведала мне историю об одном из своих пациентов, о подростке, который, как и многие другие, жил в неблагополучной семье, обеспечившей ему необыкновенно высокий уровень ACE. Берк-Харрис руководила своей клиникой достаточно долго, чтобы наблюдать этого паренька в процессе роста.
Когда он впервые пришел в клинику, ему было 10 лет – несчастный ребенок в несчастной семье, совсем еще маленький мальчик, который получил некоторое количество ударов от жизни, но у которого, казалось, еще сохранялись шансы избежать мрачной судьбы. Но теперь этому мальчику было 14, он превратился в гневливого черного подростка, приближающегося к 180 см роста, который постоянно околачивался на улицах, ввязываясь в неприятности – будущий хулиган, если не преступник.
Реальность такова, что большинство из нас склонны ощущать симпатию и понимание только по отношению к десятилетнему – ведь он в конце концов еще мальчик и явная жертва обстоятельств. Но по отношению к четырнадцатилетнему – не говоря уже о восемнадцатилетнем, которым он скоро станет, – наши чувства обычно оказываются более мрачными: это гнев и страх, как минимум – безнадежность.
Преимущество Берк-Харрис заключалось в том, что она была врачом и наблюдала парня в течение долгого времени. Она понимала: тот десятилетний и этот четырнадцатилетний были одним и тем же ребенком, реагирующим на одни и те же средовые воздействия, сбитым с толку одними и теми же мощными нейрохимическими процессами.
Общаясь с ребятами из YAP, я часто обнаруживал, что меня терзает вопрос вины и обвинения: в какой момент невинный мальчик становится обвиняемым мужчиной?
У меня не вызывало возражений представление о том, что угон машины с отягчающими обстоятельствами – это воистину дурной поступок, и люди, которые на него идут, пусть даже это чувствительные, вдумчивые парни, подобные Машу, должны нести ответственность. Но я также понимал точку зрения Стива Гейтса: эти молодые люди пойманы в ловушку ужасной системой, которая воздействовала на их решения такими способами, которым они практически не могли противостоять.
Гейтс определял эту систему в основном в социальных и экономических терминах; Берк-Харрис рассматривала ее с нейрохимической стороны. Но чем больше времени я проводил в Роузленде, тем больше мне казалось, что эти две точки зрения сливаются в одну.
Бóльшая часть новой информации о детстве и бедности, раскрытой психологами и неврологами, может обескуражить любого, кто пытается улучшить перспективы детей из неблагополучных семей. Мы теперь знаем, что детские стрессы могут буквально запечатлеться в организме ребенка и всю оставшуюся жизнь причинять ему вред. Но в этих открытиях есть и кое-какие позитивные новости.