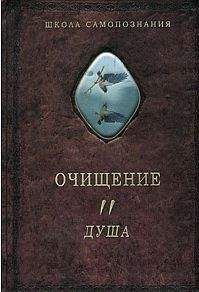«Сегодня, после раннего обеда, я лежал на диване с закрытыми глазами и думал о том, можно ли признать подлинным Платонов "Алкивиад Второй".
Открыв глаза, я увидел сперва висящий на стене портрет одной умершей писательницы, а затем у противоположной стены железную печку, письменный стол и книги. Вставши и подойдя к окну, я вижу посаженные под ним турецкие бобы с красными цветами, дорожку садика, далее, проезжую дорогу и за нею угол парка; является какое-то сначала неопределенное болезненное ощущение, но сейчас же определяется как воспоминание о прекрасной молодой ели в парке, которую соседний мужик Фирсан воровским образом срубил для своих личных целей; я чувствую сильную жалость к бедному дереву и крайнее негодование на глупость этого Фирсана, который легко мог бы без всякого нарушения божеских и человеческих законов добыть необходимые ему для Никольского кабака деньги, попросивши их у меня. "Ведь встречался со мною, в лицо знает, кланялся, анафема!" Я решаюсь настаивать перед владельцем парка на действительных мерах для его охраны. Вид сияющего дня успокаивает несколько душевное волнение и возбуждает желание пойти в парк наслаждаться природой, но вместе с тем чувствуется расположение писать о гносеологическом вопросе; после некоторого колебания второе намерение побеждает, я иду к столу, беру перо — и просыпаюсь на диване.
Придя в себя и удивившись яркости и реальности сновидения, я подошел к окну, увидел, конечно, то же, что и во сне, испытал снова те же ощущения и после некоторого колебания между двумя желаниями — идти гулять или заниматься философией, остановился на последнем и стал писать (начиная со слов "теоретическая философия, отвечая чисто умственному интересу") то, с чем сейчас познакомился читатель, для успокоения которого спешу теперь заметить, что остальная часть дня проведена мною в бодрствующем состоянии, и что снова заснул я лишь ночью, легши в постель» (Там же, с. 100–101).
Вот из этого переживания, которое можно назвать самонаблюдением, рождается для Соловьева вопрос о достоверности знания. Какова природа того ощущения достоверности, что бывает у нас, когда мы видим, к примеру, сон, или когда мы видим действительность?
«Если бы во время только что описанного сновидения меня спросили: знаю ли я, что действительно вижу то-то, думаю о том-то, испытываю такое-то чувство и желание, принимаю такое-то решение, исполняю такое-то движение, — словом, переживаю все описанные состояния, — я, конечно, сказал бы: да, знаю, и при том с безусловною достоверностью, не требующею доказательства и не подлежащую оспариванию.
И затем, проснувшись, я должен бы был по совести подтвердить этот мой ответ относительно предшествующего сна. Пусть это не было наяву, но это было. То, что (was, quid) мне виделось, не было действительностью в данный момент, но что (dass, quod) оно мне виделось — есть факт действительный и безусловно достоверный. <…>
Вообще во сне ли, наяву ли, испытывая известные внутренние состояния и действия: ощущения, представления, душевные волнения, желания, решения и т. д., — мы вместе с тем знаем, что испытываем их, и это знание факта, непосредственно и нераздельно связанное с самим фактом, с ним и при нем неотлучно находящееся и потому справедливо называемое со-знанием, con-scientia, Bewusstsein (то есть Bei-wusstsein), должно быть признано безусловно достоверным, ибо здесь знание непосредственно совпадает со своим предметом, мысль есть простое повторение факта, суждение есть выражение чистого тождества: А=А» (Там же, с. 100–102).
Исчерпывающее определение: со-знание— это «вместе с тем знание», вместе с переживанием знание о переживании. Иными словами, сознание есть осознавание. Соответственно, пока сознание таково, его можно считать чистым:
«Пока знание покрывает только наличный факт, оно причастно всей его несомненности; между таким знанием, то есть чистым сознанием, и его предметом нельзя продеть и самой тончайшей иглы скептицизма» (там же).
В сущности, о Соловьеве надо бы рассказывать не в книге, посвященной сознанию, а в книге об осознавании. И тогда в нее вошли бы еще многие утонченные наблюдения, сделанные им. Но большой путь, уже проделанный мной по морям сознания говорит, что такое понимание сознания односторонне и обычно приводит мыслителя к противоречиям с самим собой. Соловьев слишком одарен, чтобы не чувствовать этой ловушки, и довольно скоро у него начинают мелькать оговорки, вроде «первичного сознания».
Иначе говоря, он чувствует, что то самое «чистое» или «непосредственное» сознание, которое только осознает, не покрывает всех явлений, которые мы обычно относим к сознанию. Поэтому он говорит о «первичном сознании», тем самым допуская существование «вторичного» сознания. Но с точки зрения чистоты философского рассуждения это означает, что его определение сознания неверно и его надо бы уточнить или хотя бы допустить возможность уточнения. Этого нет. Думаю, ему просто не хватило времени на сознание, потому что он рвался к главной схватке этой книги — к поединку с Декартом, которому он бросил вызов, усомнившись в самом его знаменитом сомнении. Знание было нужно для разговора о сознании, а разговор о сознании вот для этого:
«Чтобы связать достоверность существования субъекта с тою простою самодостоверностью сознания, которая присуща каждому его состоянию, Декарт остроумно берет именно состояние сомневающегося сознания. Пусть я сомневаюсь, — говорит он, — в существовании всего, но я не могу при этом сомневаться в существовании самого сомневающегося, так как оно налицо в самом факте сомнения. Dubitoergosum, или, общее: Cogitoergosum. Так ли это?» (Там же, с. 108).
И далее, не менее остроумно, чем Декарт, Соловьев выводит иные основания философии, которые не позволяют в себе сомневаться. Поскольку меня не занимают судьбы философии, тем более теоретической, эту часть работы я оставлю философам. Мне нужно только сознание.
А вот понятие сознания, как только он ввязывается в драку и забывает о строгих рамках, начинает у него плавать. Вдруг появляются и формы и содержания.
«То мышление, из которого исходит Декарт, есть только замечаемый факт психического происшествия — и ничего более: то самое, что выше нами рассматривалосъ как сознание в тесном смысле, как тождественная со своим содержанием прямая, простая или непосредственная форма сознания» (Там же, с. ПО).
Не было формы, тождественной со своим содержанием, была мысль, совпадающая с каким-то предметом. Да и мышление, если рассуждать строго, не может быть «только замечаемым фактом», оно должно быть «мыслимым замечаемым фактом», «используемым замечаемым фактом». И если у Декарта это не так, то это вообще не мышление, и так прямо и надо было бы о Декарте сказать. А раз не говорит, значит, все-таки у Декарта — мышление.
Иными словами, как раз здесь речь пошла и о сознании в «тесном» смысле, о первичном сознании, и о сознании вторичном — использующем первичное для того, чтобы мыслить. Но как можно использовать первичное сознание, если оно только осознавание? Да никак. Для использования его надо сохранить в виде знания, а значит, в виде памяти, то есть в образах. Но что такое образы сознания, как не формы? Но если это так, то можно ли считать формы частью первичного сознания? То есть осознавания? Судя по сказанному, да.
Значит со-знание, есть и сознавание и превращение в образы. Но тогда и хранение образов? Или для хранения у нас есть некая обслуга сознания, которая к сознанию не относится? Но даже если само хранилище является чем-то условно самостоятельным, например, мозгом, но не без ведома же сознания он забирает из него его образы? И использует. Или использование образов сознания происходит так, что сознавание само, условно говоря, вдруг с удивлением осознает, что их кто-то использует?
В любом случае, природа хранилища должна быть очень, очень близка природе сознания, чтобы происходило взаимодействие. Очень трудно хранить биты в бочках, проще хранить в них апельсины. Значит, даже если хранилище чужеродно сознанию, должен быть некий укладчик, который может переводить образы сознания в такое состояние, которое позволит хранить их в хранилище. Как процессор компьютера, к примеру, переводит биты информации в электромагнитные сигналы, способные записываться на носитель, например, в дискету.
Где этот укладчик и какова природа той переходной среды, которая единородна с образами сознания и с мозгом?
Допущение о «первичном» сознании, неизбежно ведет к допущению и о «вторичном» сознании. Соловьев почему-то не делает этого шага напрямую, но постоянно проговаривается, будто видит и эту сторону сознания. Иначе, как такими проговариваниями, я не могу объяснить множественные высказывания, вроде такого: