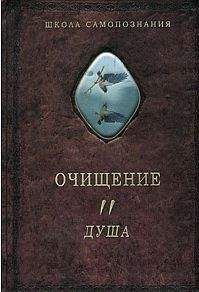Допущение о «первичном» сознании, неизбежно ведет к допущению и о «вторичном» сознании. Соловьев почему-то не делает этого шага напрямую, но постоянно проговаривается, будто видит и эту сторону сознания. Иначе, как такими проговариваниями, я не могу объяснить множественные высказывания, вроде такого:
«Чистый субъект мышления есть феноменологический факт не менее, но и не более достоверный, чем все другие, — то есть он достоверен безусловно, но только в составе наличного содержания сознания, или как явление в собственном, теснейшем смысле этого слова. Когда является в сознании мысль о я, то это я очевидно есть факт психической наличности, или непосредственного сознания» (Там же, с. 115).
Вот так сработала расставленная самому себе ловушка. Определение, брошенное походя, подрывает доверие ко всему сочинению.
Чтобы мысль о я, как факте «первичного сознания», явилась в «сознании», нужно, чтобы «сознание» и «первичное сознание» различались. И это значит, что сознание не есть просто со-знание, знание, которое сопутствует переживанию. Это нечто гораздо большее, нечто, в чем можно являться и жить, как содержание или форма.
Владимир Соловьев не называет это. Хотя и показывает. Но он менял свои взгляды и, возможно, ему просто не хватило времени, чтобы подобно Кавелину сделать и этот шаг. Второй. Соловьев был вдохновителем — мыслителем, делающим первые шаги и дарящим их другим.
Я приведу еще один пример такого первого шага. Сомнение Соловьева в самом Я. Может быть, оно тоже вдохновит кого-то.
«В одном специальном издании не так давно сообщалось, что во время эксперимента по гипнотизму, во Франции, одна скромных нравов молодая девица из рабочего класса, под влиянием внушения, принимала себя, судя по ее минам, жестам, словам и поступкам, сначала за пьяного пожарного, а потом за архиепископа парижского. <…>
Ясно, что такие факты <…> в корне подрывают мнимую самодостоверность нашего личного самосознания или обычную уверенность в существенном, — а не формальном или феноменологическом только, тождестве нашего я.
Не количество снов, разумеется, а сам факт сновидения имел значение для Декартова сомнения в реальности внешнего мира. Но если факт субъективных признаков, принимаемых спящим за внешнюю реальность, колеблет в философе абсолютное доверие и к той реальности, которую мы воспринимаем, по-видимому, в бодрственном состоянии, то и факт гипнотического лжесознания о своем я должен возбуждать предварительное недоверие и к тому самосознанию, которое, по-видимому, не связано ни с какой аномалией. Ведь безусловно и внешнего критерия для нормальности наших состояний или готового ручательства за отсутствие в данном случае гипноза, или чего-нибудь подобного, мы, философски говоря, допустить не можем. Да и житейски говоря, как спящий обыкновенно не знает, что он спит, и безотчетно считает себя бодрствующим, или точнее — не ставит вопроса о различии этих состояний, так и загипнотизированный субъект не отдает себе отчета в своем положении, и чужие внушения прямо принимает за собственное самосознание.
Следует заметить, что формальный или феноменологический субъект при этом вовсе не изменяется: я, мне, меня, мое — остаются как ни в чем не бывало.
Оно и не удивительно: субъекту сознания как таковому нечего изменять в себе, так как в нем самом по себе ничего не содержится, — это только форма, могущая с одинаковым удобством вмещать психический материал всякой индивидуальности — и модистки, и пожарного, и архиепископа» (Там же, с. 117–118).
Гениальное прозрение, опередившее свое время чуть не на век. Прикладная психология сделала это темой своих исследований в конце XX века, назвав его обобщенно измененными состояниями сознания. Гениальное, хотя и извращенное академическим образованием, я бы сказал, вывернутое наизнанку. Но прежде объяснений еще одно наблюдение Соловьева.
«Факт мнимого самосознания прежде всего наводит на мысль, что древние римляне не ошибались, может быть, когда вместо лицо или личность, говорили личина («persona» первоначально значит "маска"). Если в одном случае, как в приведенном выше, те лица, в виде которых определяется эмпирической самосознание данной особи, бесспорно, признаются и житейским мнением лишь за гипнотические маски, невольно надетые на себя субъектом другого пола и звания, то философски нельзя отрицать aprioriи без исследования возможности того же и во всяком другом случае.
Как эмпирический субъект, сознающий себя пьяным пожарным или же архиепископом парижским, может по общему признанию быть на самом деле молодою модисткой, так возможно и то, что данный теперь в моем самосознании Владимир Соловьев, пишущий главу из теоретической философии, есть в действительности лишь гипнотическая маска, надетая каким-нибудь образом на королеву мадагаскарскую Ранавало, или на госпожу Виргинию Цуки, — и если у меня нет положительных оснований и поводов признавать такую метапросопопэю как факт, то нет так же философского права отрицать заранее и безусловно ее возможность» (Там же, с. 118–119).
Вот теперь разберемся.
Первое, что хотелось бы сказать философу, вдарившемуся в теории и умствования, — начать стоило бы не с поучений и не с изложения истин и откровений об истине, а со сбора материала и описания исследуемого явления. Начни Соловьев с этого рассказа о «лжесознании», и ему пришлось бы признать, что некоторые из наблюдаемых в действительности фактов не укладываются в его исходные понятия о сознании, которые он выразил в определении. Затем стоило бы перечислить как то, что он считает бесспорными признаками сознания, так и то, что туда не вошло.
Что бесспорно: Сознание превращает воспринятое в знания.
Я все время осознаю себя действующим в каких-то обстоятельствах и не сомневающимся в себе, то есть в своем существовании.
Вот ведь и все, что сказал о сознании Соловьев исходно. Правда, косвенно он к этому добавил, что, кроме такого сознания-осознавания, есть и некоторое вторичное сознание, в котором может существовать мысль, являющаяся осознаванием внешнего предмета. Сказал, но не признал.
В итоге рождаются факты, вроде: «и чужие внушения принимает за собственное самосознание». А Я принимается за форму, «могущую вмещать психический материал индивидуальности». То есть все то, что ты считаешь собой, например, Владимиром Соловьевым.
За всем этим чувствуется какая-то обида на Я, которое подвело философа, оказавшись пустышкой. Берем, гипнотизируем — и все содержание я пропадает, а вместо меня Владимир Соловьев!
Но это всего лишь упорная привязанность к привычным для философски образованного человека образцам мышления. Не остановись он перед ужасом потери своей личности, пойди дальше, и уже в следующем шаге рассуждений обнаружил бы, что не обязательно вдаваться в крайности «гипнотического лжесознания», то есть отождествления себя с иной личностью. Если внимательно приглядеться, то личностные отождествления можно увидеть и прямо здесь. К примеру, можно снять маску Соловьева-философа, за ней — Соловьева-мистика, за ней Соловьева-умницы!..
И что мы при этом обнаружим? То, что я без малейшей потери будет осознавать себя собой. Иначе говоря, я никогда не изменяло себе, и никакой гипноз с ним ничего не делал. Не было ни лжесознания себя другим, ни принятия внушения за самосознание! Я осознавало себя Я, «как ни в чем не бывало», по словам самого Соловьева. Самосознание не менялось.
Менялось нечто другое, нечто вокруг, что как раз и можно назвать формой, внутри которой существует Я. Формой, сквозь которую Я проявляется в этом мире. И эта форма — не самосознание, а то самое вторичное сознание, состоящее их множества образов, складывающихся в мировоззрение и образ себя.
И этому Я совершенно все равно, сквозь какой образ себя, сквозь какое сознание проливаться светом в этот мир. Все его поведение — лишь тени, отбрасываемые образами его сознания на стены этого мира. Тени модисток, архиепископов, философов. Они настолько несущественны, что Я совсем не ценит их и меняет без тени воспоминания, и лишь они сами бьются за продление своего существования, присваивая себе присущую Я охоту жить.
Сознание, пока оно не чисто, это всего лишь то, в чем мы живем, но очиститься от него — не значит умереть. Очиститься — это просто жить иначе.
Глава 5. О природе человеческого сознания. Князь Трубецкой