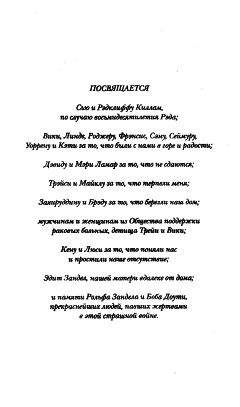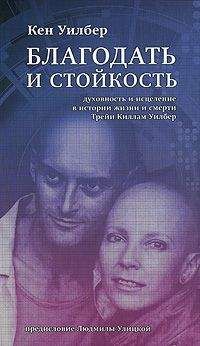Но Трейя скоро умрет. И при этой мысли я начал плакать — в буквальном смысле слова, всхлипывая, не в силах сдержаться и очень громко. Какие-то люди спросили меня по-немецки, все ли со мной в порядке; как бы мне хотелось, чтобы у меня была с собой карточка с надписью «Доктор Шейеф дал мне на это личное разрешение».
Не знаю, когда я впервые понял, что Трейя скоро умрет. Может быть, это случилось, когда врачи сказали мне про опухоли в легких и мозге и попросили придержать эту информацию. Может быть, когда наши американские врачи сказали, что если она не будет лечиться, то проживет полгода. Может быть, когда я своими глазами увидел результаты компьютерной томографии ее изъеденного раком тела. Но, когда бы это ни случилось, сейчас это знание вдруг рухнуло на меня. Мысли, которые я несколько лет гнал от себя, нахлынули потоком. Опухоль мозга еще может подвергнуться ремиссии, но даже Шейеф сказал, что шансы на ремиссию опухоли легких равны 40%, а при таких цифрах немногие станут на что-то рассчитывать. В сознании пронеслись страшные картины возможного будущего: Трейя мучается от боли, пытается дышать, хватает воздух, она подключена к аппарату искусственного дыхания, ей внутривенно вводят морфий, родные и близкие бродят по больничным коридорам в ожидании того, когда ее слабое дыхание остановится. Я обхватил себя руками, я раскачивался взад-вперед и все повторял: «Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет...»
На первом же трамвае я спустился с горы и позвонил Норберту из кафе.
С Трейей все в порядке, Кен. А с тобой?
Норберт, не жди меня сегодня.
Я сел у барной стойки и стал пить водку. Много водки. Страшные картины, связанные с Трейей, продолжали носиться у меня в воображении, но теперь меня захватила бесконечная жалость к себе. Ах я бедолага, ах я бедолага, повторял я, вливая в себя «корн» — убогий немецкий аналог водки. Даже на Тахо я ни разу не напивался так, чтобы свалиться с ног. Я продолжал пить.
Когда я, уж не помню как, вернулся в «Курфюрстен- хоф», Норберт уложил меня в постель и оставил на тумбочке горсть таблеток витамина В. На следующее утро он послал горничную, чтобы убедиться, что я их выпил. Я позвонил Трейе в палату:
Привет, милая, как ты?
Отлично, мой дорогой. Сегодня воскресенье, так что ничего особенного не происходит. Температура у меня упала. Через несколько дней все будет хорошо. На среду назначен прием у Шейефа. Он собирается рассказать о результатах последнего лечения.
При этой мысли мне стало дурно, потому что я знал, что именно он собирается рассказать, — по крайней мере, так мне казалось, но в моем состоянии этого было достаточно.
Тебе что-нибудь нужно, солнышко?
Не-а. Вообще-то я как раз занимаюсь визуализацией, так что не могу долго разговаривать.
Никаких проблем. Слушай, я собираюсь кое-куда съездить. Если что-нибудь понадобится, звони Норбер- ту или Эдит. Хорошо?
Конечно. Давай отдохни как следует.
Я зашел в лифт и спустился в вестибюль. Там сидел Норберт.
Кен, тебе не стоило бы так напиваться. Ты должен быть сильным. Ради Трейи.
О Господи, Норберт, я уже устал быть сильным. Я хочу быть слабым и бесхребетным. Мне это идет гораздо больше.
Не надо так говорить Кен, это ведь не поможет делу.
Знаешь, Норберт, я хочу ненадолго уехать. В Бад- Годесберг. Я позвоню тебе и снова заселюсь.
Только смотри не наделай глупостей.
Уезжая, я смотрел на него из такси.
По воскресеньям вся Германия закрыта. Я бродил по окраинным улочкам ГЪдесберга и все больше проникался жалостью к себе. В этот момент я не столько думал о Трейе, сколько о самом себе и своих переживаниях. Моя жизнь, черт возьми, в руинах, я все сделал для Трейи, и теперь Трейя — я готов убить ее! — скоро умрет.
Я бродил, полный жалости к себе, огорченный тем, что все ресторанчики закрыты, пока не услышал звуки польки в нескольких кварталах от меня. Наверное, ресторанчик, решил я, ведь даже по воскресеньям ничто не удержит добрых немцев от «Кёлыпа» и «Пиера». По звукам музыки я нахожу симпатичный ресторанчик где- то в шести кварталах от центра. Там — около дюжины человек, все они немолоды — наверное, под шестьдесят с небольшим, у всех красные щеки — результат того, что много лет они встречали день «Кёлыпем». Звучала очень живая музыка — совсем не похожая на те приторные опусы Лоуренса Уэлка[103], что в Америке считают- ся полькой, а настоящий немецкий блюграсс[104] — мне она понравилась. Примерно половина мужчин — там не было женщин, не было молодежи — танцевала полукругом, положив руки друг другу на плечи и время от времени одновременно выбрасывая ноги, — мне показалось, что это похоже на танец из «Грека Зорбы»[105].
Я сел у бара в полном одиночестве и опустил голову на руки. Передо мной возник «Кёлып» и, не задаваясь вопросом, откуда он взялся, я осушил его залпом. Появился еще один. Я выпил и его. Наверное, они думают, что у меня тут кредит, мелькнуло у меня в голове.
Я выпил еще четыре «Кёлыпа» и снова стал плакать, хотя в этот раз попытался это скрыть. Не помню, чтобы я плакал так много, подумал я. Впрочем, никто не видит. Я начинаю слегка хмелеть. Несколько человек, танцуя, движутся в мою сторону и жестами зовут присоединиться. Нет, спасибо, не хочу — жестами показываю я им. Еще несколько «Кёлыыей», и они снова машут мне, только на этот раз один из них мягко берет меня за руку и тянет за собой.
— Ich spreche keine Deutsch[106], — произношу я единственную заученную наизусть фразу. Меня продолжают тащить, мне машут руками, улыбаются, они явно встре- вожены, явно хотят мне помочь. Я серьезно думаю, не рвануть ли мне к двери, но я не расплатился за пиво. Неуклюже, очень сосредоточенно я присоединяюсь к танцующим; я кладу руки на плечи стоящих рядом, мы движемся взад и вперед и вскидываем ногами. Я начинаю смеяться, потом плакать, потом снова смеюсь и снова плачу. Мне хочется отвернуться, не показывать, что со мной происходит, но меня удерживают в полукруге руки соседей. Проходит минут пятнадцать, и я уже не в силах сдержать эмоций. Страх, паника, жалость к себе, веселье, радость, ужас, жалость за себя, радость за себя — все эти чувства обрушиваются на меня и отражаются на лице, мне стыдно, но люди кивают головами и улыбаются, словно хотят сказать: все в порядке, молодой человек, все в порядке. Вы просто танцуйте, молодой человек, танцуйте. Понимаете? Танцуйте вот так...
Я провел в этом ресторане два часа. Я танцевал и пил «Кёльш». Мне не хотелось никуда уходить. Каким- то образом в этот короткий период все, что было у меня на душе, пронеслось в моей голове, поднялось и омыло все мое существо, было выставлено напоказ и принято. Не совсем, конечно, но, похоже, тогда я примирился с ситуацией — по крайней мере, настолько, чтобы нести свою ношу и дальше. Наконец я встал и помахал на прощание. Мне помахали в ответ и продолжили танцевать. Денег за пиво с меня никто не потребовал.
Позже я рассказал эту историю Эдит, и она сказала: «Ага, теперь ты знаешь, что такое настоящие немцы».
Мне хотелось бы заявить о том, что мое большое сатори, в результате которого я принял ситуацию с Трейей, примирился с мыслью о ее смерти, наконец-то снова смог отвечать за собственные решения — отставить в сторону свои интересы и делать все возможное, чтобы поддержать ее, — мне хотелось бы заявить, что все это пришло ко мне после серьезной медитации, во время которой я увидел яркий белый свет и меня по- сетило озарение, что я проникся дзенским мужеством и снова ринулся в бой, что я достиг трансцендентного просветления, которое опять поставило меня на ноги. Но на самом деле все это случилось в маленьком баре в присутствии кучки доброжелательных немолодых мужчин, чьих имен я не знаю и на чьем языке не говорю.
Когда я вернулся в Бонн, начали сбываться наши худшие опасения. Во-первых, опухоль мозга не подверглась полной ремиссии, как это происходит в 80% подобных случаев. Это было хуже всего, потому что Трейя уже получила максимально возможную дозу облучения мозга. Во-вторых, хотя большая опухоль в легких и уменьшилась в размерах, появились как минимум две новые. В-третьих, ультразвуковая диагностика выявила два каких-то пятнышка в печени.
Мы вернулись в ее палату, и Трейя разрыдалась. Я обнял ее, и, пока она плакала, мы смотрели в маленькое окошко. Я вдыхал ее боль и крепко держал ее. Мне стало понятно: те слезы, что я выплакал, были для этого, именно для этого.
— Я себя чувствую так, словно мне вынесли смертный приговор. Вот я стою тут, у окна, смотрю на эту прекрасную весну, мое самое любимое время года, и думаю — ведь это моя последняя весна.
Трейя написала письмо друзьям, тщательно подбирая слова.
Я решила, что единственное, с чем можно сравнить жизнь того, кто болен метастатическим раком, — это бесконечные американские горки (ах, как я их любила!). Я никогда не знаю, получу ли я хорошие новости или окажусь на краю пропасти, с сердцем, замирающим от страха. На прошлой неделе мне сделали ультразвуковое сканирование печени; я лежала там, а медсестра все время выходила и входила, потом позвала какую- то другую женщину. Они что-то обсудили по-немецки и снова стали ходить туда и обратно. Я уже была в полной панике, хотя мне ничего не говорили, кроме: «Глубоко вдохните — удерживайте дыхание — можете дышать нормально» — и так несколько раз. Когда я встала, то увидела на экране два маленьких пятнышка. Уверившись, что у меня рак печени, я пошла в себе в палату и там расплакалась. Я могу не прожить и года, думала я, мне надо быть к этому готовой.