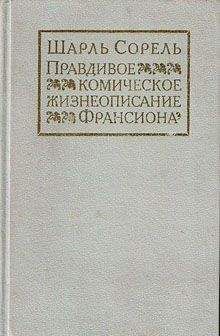Увы! В ту самую пору лишился я всех надежд, давно взлелеянных в душе. Я рисовал себе будущие свои похождения по образцу жизнеописаний великих мужей, мною прочитанных, и, полагаясь на свою доблесть и на склонность подражать всему достойному, твердо уповал на то, что меня постигнет такая же судьба, как и их. О, сколь я был слеп, не замечая бесконечных препятствий, могущих воспротивиться моим успехам, хотя бы я превосходил мужеством даже древних рыцарей!
Если бы я не изливал ярости своего гнева на бумаге, то впал бы в беспримерное отчаяние. Но посудите, ради бога, какое чудо! Разве оно не поразительно и разве не исцелило оно меня вопреки законам природы? Описав свой недуг, я уже не страдал от него в такой же мере, как прежде, хотя видел перед собой откровенное изображение самых сильных его приступов. Какой глупец станет ныне отрицать, что Аполлона почитали богом медицины в такой же мере за исцеление опаснейших ран при помощи своих стихов, как и при помощи трав, взращиваемых им, когда он принимает на себя сан солнца, дабы оплодотворить землю.
Франсион довел свою историю до этого места, но тут учтивый хозяин пожал ему руку и сказал:
— На сей раз довольно, становится уже поздно. Меня будет мучить совесть за то, что вы так утомляете себя рассказом.
Прервав его повествование этими словами, он пожелал перед уходом еще немного с ним побеседовать и сказал, что Франсион был неправ, желая опустить рассказ о своих приключениях с педагогами и тем лишить его удовольствия. Затем он продолжал так:
— Государь мой, вы претерпели немало мук из-за украденных у вас денег. Если не ошибаюсь, вы говорили, что похитил их какой-то Ремон. Очень ли вы на него сердились?
— Еще как, — отвечал Франсион, — даже теперь, когда вспоминаю беды, перенесенные мною из-за этого человека, гнев мой разгорается пуще прежнего; поступок же его мне еще потому особенно противен, что, как мне доподлинно известно, этот Ремон принадлежит к одному из знатнейших и богатейших родов во Франции.
Но тут сеньор замка сказал каким-то странным тоном, коему трудно было найти объяснение, что, может статься, этот Ремон похитил деньги ради любовных дел или по необходимости, дабы развязать себе руки и отправиться во Фландрию без ведома родителей, но что если Франсион все же ему не прощает, то может справиться, нет ли его в Бургундии, и вызвать на дуэль. На это Франсион ответил, что станет всеобщим посмешищем, если обнаружит свою досаду по поводу столь давних обид. Желая тем не менее доставить ему удовлетворение и сообщить, что сталось с похитителем его денег, дворянин обещал осведомиться, находится ли в Бургундии или где-либо в окрестностях вельможа, носящий или носивший имя Ремон. Вслед за тем он пожелал ему доброй ночи и попросил приготовиться к тому, чтобы на другое утро досказать остальные свои похождения; затем он отправился спать, весьма довольный тем, что ему удалось услышать о столь разнообразных вещах, из коих иные были поучительны для очень многих; ибо хотя не все люди — педанты, однако же поступки педанта Гортензиуса присущи не ему одному, и найдется немало таких, которые совершают точно такие же. Франсион, кроме того, обличил откровенно глупость народа, уважающего только тех, кто хорошо одет, и особенно наглость придворных, почитающих себя выше горожан, каковые нередко превосходят их своими достоинствами. Он упомянул также о заблуждениях молодежи, дурно воспитываемой вдали от родителей; однако же надлежит повсюду отметить благородство мыслей Франсиона, никогда его не покидающее. Тот, кого он занимал сими прелестными приключениями, мог вдосталь пораздумать над ними на сон грядущий и получить от них совершенное удовольствие. Мы сможем поступить так же, если у нас хватит умения применить их себе на пользу. Далее мы увидим дурачества современных поэтов и сочинителей, отменно описанные. Будет также уделено место проказам, учиняемым молодежью под влиянием любви, и среди них встретятся забавные акты комедийного действа, из коих читатель извлечет для себя развлечение и поучение,
КОНЕЦ ЧЕТВЕРТОЙ КНИГИ
КОГДА СОЛНЦЕ ПРИВЕЛО ОБРАТНО ДЕНЬ, владелец замка, уже совершенно одетый, не преминул самолично справиться о том, хорошо ли почивал Франсион, намереваясь одновременно узнать, когда гость его сможет закончить рассказ о разнообразных своих приключениях. Не желая терять времени, они сократили взаимные приветствия. Хотя Франсион и чувствовал значительное облегчение от болей, причиняемых ему раной на голове, однако же было положено, что он проведет весь сей день в постели, дабы он мог восстановить силы; а потому он и не сделал никакой попытки встать и продолжал нить своего рассказа так, как вы сейчас услышите.
— Государь мой, мы остановились вчера на удовольствии, доставляемом мне поэзией; возвращаясь к этой теме, должен вам сказать, что я раздобыл несколько довольно вылощенных сочинений, по образцу коих затем стал составлять свои; мне даже указали одну совсем новую книгу весьма прославленного автора, каковую я решил купить, дабы научиться по ней, как надлежит писать в духе века, ибо простодушно признавал, что ничего в этом не смыслю. Узнав, что книготорговец, продававший это сочинение, живет на улице Сен-Жак, я направил туда свои стопы, и поскольку любознательность моя была там известна, то мне не преминули показать множество французских книг, о коих я никогда не слыхал. У меня не было достаточно средств, чтоб приобрести весь этот ворох, а потому я купил только те, коими положил обзавестись в первую очередь, да и то пришлось мне занять денег на этот расход. Однако же я не упустил случая доставить себе удовольствие и принялся перелистывать все книги, находившиеся на прилавке, а тем временем зашел туда высокий молодой человек [113], тощий и бледный, с блуждающим взором и наружности весьма необыкновенной; одет он был крайне убого, и мне нечего было опасаться его насмешек, а посему я продолжал без стеснения разговаривать при нем с книготорговцем, не смущаясь тем, что он меня слушает.
— Скажите, — спросил я, — существуют ли теперь люди, подвизающиеся с успехом на поприще поэзии? Я всегда полагал, что такие совсем перевелись, да и, по-видимому, редко кто в наш век забавляется рифмоплетством.
— О как вы заблуждаетесь! — воскликнул книгопродавец. — Разве я не показал вам только что замечательных произведений, сочиненных ныне здравствующими авторами? Но, может быть, вы не поклонник новой манеры писать, усвоенной этими господами, и предпочитаете старинную и грубую поэзию?
— Что касается меня, — возразил я, — то не берусь вам сказать, сочиняют ли теперь лучше или хуже, нежели в прежние времена, а когда сам кропаю стихи, то не могу определить, написаны ли они по новой моде или в античном духе.
Тут молодой человек повернулся в мою сторону и, обнажив добрую половину своих зубов, отнесся ко мне с недоброжелательной усмешкой:
— Вы, как я слышу, сударь, пишете стихи?
— Я сочетаю слова со словами на темы, которые приходят мне в голову, — отвечал я, — но подбираю их так плохо, что не знаю, можно ли назвать это поэзией.
Тогда он возразил мне, что я говорю так только из самоуничижения, и попросил показать ему что-нибудь из моих произведений. Я сказал, что не решусь это сделать, ибо едва ли соблюл в них современные правила, о коих не имею ни малейшего понятия.
— В таком случае, — заявил он, — я скажу вам дружески свое мнение о них, и вы, вероятно, будете рады, что со мной посоветовались, ибо в Париже не найдется и трех человек, которые могли бы судить о стихах лучше меня.
После того как и эти доводы не убедили меня исполнить его просьбу, он распрощался со мной, сунув под плащ две или три книги, за каковые ничего не заплатил книгопродавцу, что побудило меня спросить последнего, отпускает ли он ему товар в долг.
— Нет, — отвечал тот, — я даю ему заимообразно и вынужден поступать подобным образом с целой кучей таких же сочинителей, как он, приходящих ежедневно в мою лавку, дабы поведать друг другу свои творения; здесь устраивают они важнейшие свои собрания, так что нет во Франции места, которое бы с большим правом могло быть названо Парнасом.
— Какую прибыль извлекаете вы из этих совещаний? — спросил я.
— Только ту, что они берут у меня книги и их не возвращают, — сказал он, смеясь.
— На вашем месте я вышвырнул бы таких клиентов, — заметил я.
— И не подумаю, — возразил он, — ибо среди них всегда найдется один какой-нибудь, который поручит мне напечатать свою рукопись, а кроме того, благодаря им растет слава моей лавки.
Вслед за тем я стал расспрашивать его о всех современных поэтах, каковых он мне тут же назвал, сообщив также, что тот, кого я перед тем видел, был одним из самых прославленных. Кроме того, желая мне услужить, книгопродавец обещал, что если я принесу ему какое-нибудь свое стихотворение, то он, не выдавая имени автора, покажет его этим людям, дабы узнать, какие в нем недостатки. Мне очень хотелось научиться писать та«, чтоб угодить всеобщему вкусу, и это побудило меня согласиться на его предложение и вручить ему на следующий же день одно из своих произведений, почитавшееся мною за лучшее. Он показал его этим людям, и они нашли в нем чуть ли не столько же погрешностей, сколько там было слов. Мой книгопродавец любезно все их отметил, а это послужило мне предостережением, ибо, убедившись, что поэты правы, я решил впредь не впадать в те же ошибки.