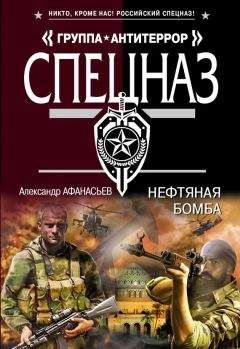– Раненых? – догадывается Павел Константинович.
– Их самых…
– Постойте, – рокочет генерал, – но это что получается? Он что, сам подорвал себя? Но это безумие!
– Это единственный способ быстро и гарантированно вырваться из кольца. В первую очередь я бы обзвонил все больницы, в которые доставили раненых. И если одного недосчитаемся…
Обзвон закончили через час. Как я и предполагал – одного раненого недосчитались. Он просто исчез из больницы, испарился. Судя по данным первичного осмотра, ничего серьезного, контузия, мелкие ранения осколками.
К утру создали временную сводную оперативную группу «Царь». Ваш покорный слуга в нее… конечно же не попал. Почему? А нельзя! Действующий резерв! И нашли, что допуск к государственной тайне давно не обновлен. Вот и усё…
Закончили, когда на востоке уже забрезжил рассвет. Спустившись вниз по скоростному лифту, вышли на двор.
Павел Константинович кивнул – надо поговорить. Отошли.
– Куда ты лезешь! – Шеф не был настроен дружелюбно. – Тебе своих головняков мало – не вопрос, подкину. Куда нос суешь?
– Товарищ полковник, я Аль-Малика знаю лично. У меня с ним счеты.
– И слышать не хочу. Что у тебя с источником твоим? Где данные?
Я не мог сказать о гибели Джейка Барски. Пока не мог… Даже мертвый, он может быть скомпрометирован. Точнее, тот или те, кто стоит за ним. А если я не могу сказать, что источник погиб, – все другие слова превращаются в раздражающие оправдания.
– Товарищ полковник, на связь не выходил.
– А ты сам назначь! Активнее, активнее! Ты что – не видишь, что делается? Завтра нас тут в космос запустят. Работать надо! Понял?
– Так точно.
– Иди, работай. Ориентируй свой источник на Малика, и пусть работает. Без данных не возвращайся.
– Так точно.
Поутру оставил сигналы экстренного контакта. Надеюсь, что, кроме Барски, их знает кто-нибудь еще…
– Что с тобой?
Я ничего не ответил. Мы лежали на наспех застеленной кровати в квартирке Амани посреди Садр-сити. Пахло коноплей – это она курила, затягиваясь по-мужски, через особым образом сложенный кулак, чтобы дым остыл. Амани курит так, как курят уже подсевшие – хотя я знаю, что она контролирует себя. Большую часть времени.
– На…
Я отрицательно покачал головой:
– Нет. Не хочу.
Она вдруг хватает меня за руку, пальцы сухие и горячие. Глаза совсем шальные.
– Затянись. Ну!
– Я сказал – не хочу.
– Затянись. Докажи, что в тебе есть что-то человеческое.
Я выхватываю сигарету одним движением, давлю ее пальцами. В ответ получаю хлесткую пощечину, ловлю руку, крепко сжимаю.
– Успокойся, – говорю я ей, глядя прямо в глаза, – война на сегодня окончена. Мир.
Поднимаюсь. Иду на кухню готовить чай. На душе темно и муторно, не отключается голова. Голова – это мое проклятье, она не отключается никогда. Ни когда я с женщиной, ни когда я на ковре у начальства и процесс совершается… несколько обратный, скажем так. Кое-кто вообще считает, что я немного не в своем уме – иногда кажусь рассеянным, переспрашиваю то, что должен помнить. Но на самом деле я научился думать о нескольких вещах сразу. И еще я не умею отдыхать. Расслабляться. Посылать все к чертовой матери. Не дано мне это.
На запах крепчайшего чая появляется Амани. Молча берет кружку, садится. Раньше инвалидами называли всех, кто поучаствовал в войне, даже если на нем ни царапины. Например, до революции была газета «Русский инвалид», но она адресовалась всем, кто участвовал в боевых действиях, не обязательно инвалидам. Так и мы с Амани. Мы уже давно – инвалиды. И лучше, если мы не будем отягощать никого своей инвалидностью.
– Моего младшего брата убили, – говорит она, отхлебывая чай.
– В Иордании?
– Да.
Я ничего не говорю – а что тут скажешь? Идет война народная, священная война – и нет никого, кто смог бы избежать ее. Амани пьет чай, и по ее смуглым щекам медленно, очень медленно текут слезы, царапая душу бессмысленной болью.
– Он был… поэтом. Писал стихи. Они убили его… Знаешь, за что?
…
– Он не был нужен в борьбе. Знаешь, он был очень мягким человеком. Приносил домой птиц, выхаживал их. Приносил домой кошек. Он просто был бесполезен в борьбе, понимаешь? Ему нельзя было дать автомат и сказать – стреляй. Он не смог бы – и они это знали. Тогда они пришли и убили его. Просто чтобы его не было. Просто чтобы он не разлагал народ. Чтобы не показывал на своем примере, что можно оставаться в стороне от бойни. Не воевать. Не стрелять. Не взрывать. Вот за это они его и убили…
– Если хочешь, я попробую узнать, кто, – прерываю молчание я.
– Кто? – Амани горько усмехается. – Какая разница, кто? В нашем народе отдельные люди ничего не значат. Я знаю, что это сделали люди Аль-Асира[14]. Я знаю, что это послание мне – будешь делать то, что ты сейчас делаешь, и мы убьем кого-нибудь еще.
Я тоже присаживаюсь на топчан, который здесь вместо табурета.
– Сколько ему было?
– Двадцать лет…
Двадцать лет… А знаете, в моем крестовом походе, в нем все-таки есть цель. Я не хочу, чтобы у нас, в России, там, где живет мой народ, это было. Не хочу, и все. Я сделаю все, чтобы этого не было. Скольких бы мне ни пришлось убить ради этого.
– Ты понимаешь, что он – жертва войны? Которую ведешь в том числе и ты.
Амани смотрит на меня своими зелеными глазищами. В темной кухоньке – подобно язычку пламени на болоте – колышется пламя керосинки.
– Да. Понимаю. Но что делать, скажи? Мой народ – народ из концлагерей. Из лагерей беженцев. У нас отняли все, что у нас было. Всё, понимаешь? Нашу землю. Наши сады. Наши кладбища. Наши святыни. Всё – до последнего. Всё, что у нас есть, – это враг, который расположился на нашей земле и живет там. Как можно не вести войну, скажи?!
Я молчу. Взвешиваю слова. Не для того чтобы что-то вытянуть у нее, пользуясь ее состоянием. А для того чтобы понять – поймет она то, что я ей могу сказать, или пристрелит. В спину. Наверное, если пристрелит – я пойму. Может, я и сам бы себя пристрелил.
– Ты знаешь нашу историю? Историю Руси?
– Откуда…
Да уж. Историю в лагерях палестинских беженцев учат по пересказам отцов и дедов. Там всё помнят. У кого что отняли. Кого и когда убили. Кто и когда умер в тюрьме. Кого забили до смерти. Нет палестинца, который бы это не помнил.
Зато в палестинских лагерях в школе преподают «Майн Кампф». Я бы сам не поверил, если бы не видел и если бы не покупал книжки на арабских книжных развалах. «Майн Кампф» занимает там почетное место, продаются, и не из-под полы, фотографии Адольфа Гитлера. И это значит лишь то, что для этих народов борьба не окончена.
– Я тебе расскажу. Знаешь, сто лет назад мы жили очень плохо. Мы жили намного хуже, чем даже вы живете теперь. Восемьдесят процентов наших людей жили в кишлаках, и хлеба, которого они собирали, не хватало на то, чтобы дожить до весны – а ведь с них правительство еще брало налоги. Да, были квалифицированные рабочие, которые получали в двадцать, а то и в пятьдесят раз больше, чем те, кто жил на селе. Но таких было очень немного.
И тогда они восстали и сбросили правительство. Потому что они подумали, что можно жить как-то по-другому. Потому что они хотели просто жить, обрабатывать землю, которую бы они делили поровну, и никому ничего не платить. Вот это они хотели, и ради этого они начали войну. Войну, в которой погибло больше двадцати миллионов.
Амани слушает. Она умеет слушать.
– Они прогнали богатых людей. Прогнали дворян… Это такие люди, которые благородного происхождения и у которых есть привилегии, примерно как шейхи. Они прогнали священников и закрыли церкви. Они отняли у всех землю, а потом и заводы. Землю поделили, а заводы – сказали, что они общие. А потом они пошли дальше, нести правду миру на штыках. И знаешь, что получилось потом…
…
– Они пришли в соседнюю страну, но там рабочие и крестьяне поднялись вместе с военными, вместе с богатыми и разбили их. Они просто ненавидели их – всех, до последнего, ненавидели за то, что они руси. Пленных они поместили в концлагеря и убили. Это было первое поражение.
Потом евреи взяли себе слишком много власти. И начали воевать с теми, кто, по их мнению, был не прав. Знаешь, эти люди, простые люди, феллахи – они так хотели своей правды, что готовы были и убить и умереть за нее. Каждый, кто хоть словом, хоть полусловом, хоть намеком был против правды, – был врагом. И евреи сказали – мы найдем и убьем ваших врагов. И они стали это делать. Убивали и убивали. Убивали и убивали. Заключали в тюрьмы и опять убивали. Эти феллахи, простые и честные люди, они думали, что все и для всех братья. Но для соседей они были не братья, а смертельные враги. А для евреев они были как скоты. Которых можно убивать… Даже совсем без вины. Просто чтобы их было меньше. Чтобы освободить себе землю. Это было второе поражение.
Потом у этих феллахов отняли землю. У всех, и кто плохо работал, и кто хорошо, и кто получил землю честно, и кто получил ее нечестно. У всех – до последнего человека. Евреи придумали кибуцы – у нас они это сделали еще раньше, чем здесь, и загнали туда всех людей. А кто был против – тех убили, и таких было несколько сотен тысяч.