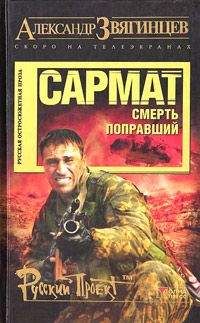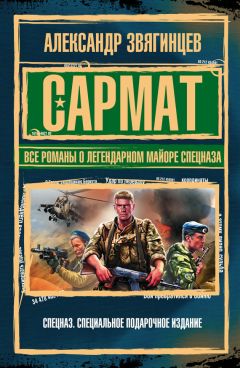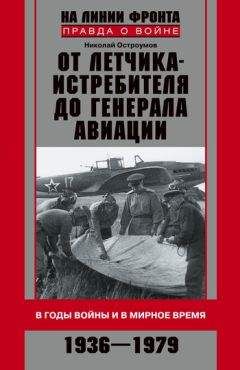Один из охранников вдруг сел на валун, за которым прятался Сарматов. Прямо перед глазами майора оказался грязный, местами порванный халат и расстегнутая кобура, из которой торчала рукоятка пистолета...
* * *
— Ну, как ты себя чувствуешь сегодня? Надеюсь, что за ночь ты не умер, — старик Мутталиб-ака нагнулся над своим подопечным и легонько потряс его за плечо.
К его великому облегчению, перебинтованный человек не умер, а спал крепким сном.
— Ну спи, спи... — старик покивал, тяжело вздохнул и наконец поднялся с колен. — Мои двое сейчас тоже спят. Только ты проснешься, когда есть захочешь, а они никогда не проснутся...
Сарматов незаметно открыл глаза и проводил старого моджахеда взглядом. Чем-то он удивительно был похож на того старика Вахида, которого казнил Абдулло. Все старики чем-то похожи друг на друга, — подумал Сарматов, — будто бы время стирает черты, индивидуальности с их лиц, оставляя лишь следы горестей и лишений.
А солнце уже показалось над горами. Из палаток один за другим стали вылезать босые люди. Каждый расстилал маленький расшитый коврик, становился на колени и начинал совершать свой утренний намаз.
Через час караван снялся со стоянки и опять медленно, как огромная сороконожка, пополз вверх по узкой горной дороге...
Москва. Госпиталь имени Бурденко
3 июля 1988 года.
Большая, коек на двадцать, палата, была набита безрукими, безногими, перетянутыми бинтами и лежащими под капельницами людьми. Все они что-то делали, дабы скоротать тоскливое больничное существование. Одни писали письма, другие резались в домино, третьи читали или травили друг другу анекдоты. Некоторые просто лежали и смотрели в потолок. В углу, рядом с кроватью полностью замотанного в бинты человека, стояла широкая детская коляска для близнецов, внутри которой мирно посапывали два малыша; рядом прикорнула на сдвинутых стульях молодая хрупкая женщина. Человек в бинтах пришел в себя и громко застонал. Женщина мгновенно вскочила со своего импровизированного ложа и склонилась над ним.
— Я здесь, Андрюша! — сказала она. — Что тебе, родной?..
— Пить!
Она намочила в стакане воды жгут бинта и, поднеся его к потрескавшимся от жара губам, виновато сказала:
— Военврач велел только губы мочить.
К ней, опираясь, на костыль, подошел молодой раненый в наброшенном поверх пижамы кителе с сержантскими погонами на плечах:
— Везла бы ты домой сосунков, сестренка, присмотрим мы за лейтенантом!
Закусив губу, та упрямо замотала головой и, схватив стоящую в углу швабру, начала протирать пол палаты.
Сержант отошел к раскрытому окну и стал вглядываться в городскую толчею, просматривающуюся сквозь прутья забора и листву деревьев, окружающих госпиталь.
— Закурить не найдется, земеля? — дотянулся до него костылем здоровенный раненый, лежащий на высокой кровати, с подвешенными на растяжках, забинтованными ногами.
— Ожил, земеля! — улыбнулся сержант, протягивая пачку «Явы». — А вчера из тебя лишь мат с юшкой...
— Блин, я до министра обороны дойду, суки! — глубоко затягиваясь сигаретой, проскрипел зубами тот. — Нас из Герата на «тюльпане»... Ящиков пятнадцать «груза двести» и нас, тяжелораненных, больше ста, всех вперемешку, и салабонов, и «полканов»... Вместо Ташкента в Мары, в Туркмении ссадили. «Тюльпан» на крыло — и назад в Афган, а нас навалом на песок у взлетной полосы... Жара — сорок в тени, ни кустика, до стекляшки аэропорта версты две...
— Вот суки! — вырвалось у сержанта.
— Военврач бегает между нами, что делать, не знает, у самого слезы на глазах... У него ни бинтов, ни йода, блин!.. Кричит: «Погодите, не умирайте — заберут вас скоро!» Ага-а, забрали, блин! Три «газона» с туркменскими ментами подъехали. Менты сытые, из глаз масло льется!.. Смотрят они на нас, как на зверей в зоопарке, смеются: «На все воля Аллаха — вас здесь никто не ждал!» Шесть часов мы на этой полосе загорали. За это время человек пятнадцать тяжелораненных «грузом двести» стали, а остальные поползли по бетонке к стекляшке, а за ними полосы кровавые и мухи их азиатские роем...
— Возьми пачку себе! — сказал сержант и взял прислоненную к спинке кровати, видавшую виды, в солдатских наклейках гитару. Прижав ее культей левой руки, к себе, он здоровой правой перебирает струны и поет хриплым голосом, не замечая вошедших в палату Толмачева, Николая Степановича, капитана-порученца и двух военврачей в белых халатах поверх армейских рубашек.
Грохот боя и адская сушь —
У войны лик такой некрасивый!
Белый снег на хребте Гиндукуш —
Опоздавший подарок России!
Повезет — разойдемся со смертью,
Злую память утопим в вине,
Только вы нам не верьте, не верьте —
Мы останемся здесь, на афганской войне!
Раненый с подвешенными ногами, толкнул поющего сержанта костылем, показывая ему на дверь. Однако тот, оглянувшись и увидев незваных гостей, только развернулся и еще сильнее прижал культей гитару. В его сузившихся глазах полыхнула злость, и он запел, чеканя слова:
Вам вовек не дождаться возврата
Наших грешных, погубленных душ —
Им блуждать и блуждать под Гератом,
За афганским хребтом Гиндукуш!
Генералам на грудь лягут Звезды,
Ну а нам — седина в двадцать лет!
Птица-юность сгорела под Хостом,
И виновных, конечно, в том нет!
— Уж слишком они себе позволяют! — вскинулся Николай Степанович и ястребом посмотрел на стушевавшегося военврача.
А сержант, прикрыв глаза, словно не было у него больше сил смотреть на тошные лица командиров, продолжил петь с надрывом:
Грохот боя и адская сушь —
У войны лик такой некрасивый!
Белый снег на хребте Гиндукуш —
Опоздавший подарок России!
Исподтишка погрозив раненым кулаком, военврач показал вошедшим на кровать, возле которой приткнулась детская коляска.
— Лейтенант Шальнов, товарищи! — сказал он и вздохнул: — Состояние тяжелое, сделана операция по пересадке кожи...
— У вас здесь госпиталь или детский сад? — перебил его Толмачев, показывая на коляску.
Со шваброй в руках вперед вышла измученная хрупкая женщина.
— Извините, пожалуйста! — покраснев, произнесла она. — У них здесь не хватает нянечек, так что я заодно на общественных началах!.. А их, — показывает она на посапывающих малышей, — деть некуда... Им всего по два месяца, — совсем смутившись, добавила она. — Один мальчик у нас и девочка... Тоже одна... Вот...
— А вы, собственно, кто? — спросил генерал.
— Я?.. Я Лена Шальнова, жена лейтенанта Шальнова.
— Понятно! — улыбнулся Толмачев и наклонился над кроватью: — Лейтенант? Слышь меня, лейтенант? Открой, сынок, глаза, если меня слышишь.
Шальнов открыл затянутые мутной пеленой боли глаза и, мгновенно ослепнув от яркого солнечного света, врывающегося в палату, снова закрыл их.
— Не трогайте его, товарищ генерал! — попросил врач. — Он сейчас один на один с костлявой...
— Мы вот хотели поговорить с лейтенантом! — обратился тот к Лене. — Да не вовремя, видно!.. Подарки вот хотели передать, — кивнул он нагруженному пакетами порученцу, и тот аккуратно поставил их рядом с кроватью. — И вот еще, — сказал Толмачев, вкладывая в откинутую к краю кровати забинтованную руку Шальнова орден Красной Звезды. — А это, дочка, нашьешь на его китель, — протянул он погоны с одним просветом и тремя звездами.
— Спасибо! — зардевшись, ответила она.
Наклонившись к ее лицу, Толмачев подмигнул и спросил:
— Сосунков окрестила?..
— Нет еще! — шепотом ответила она. — Ребята из их группы хотели после возвращения оттуда... — Она всхлипнула. — Они все хотели, чтобы крестным отцом был Игорь Сарматов. А о нем ничего не известно?
Толмачев нахмурился, покачал головой и, обведя взглядом палату, стремительно направился к выходу... Николай Степанович удивленно посмотрел ему вслед и, повернувшись к Лене, сказал:
— Я, собственно, тесть... э-э... капитана Савелова... У меня большие возможности, может, я могу что-нибудь сделать для вас с лейтенантом?
— Нет, нет, спасибо, у нас все есть! — торопливо ответила женщина.
— Эй ты, тыловая крыса, если у тебя большие возможности, не мог бы мне новую руку сделать?! — зло спросил лежащий у окна сержант и показал свою культю.
— Не забывайтесь, молодой человек! — вспыхнул тот и под насмешливые ухмылки раненых так же быстро покинул палату.
Ближнее Подмосковье
3 июля 1988 года.
...Стремительно бегут навстречу черной «Волге» заросшие сурепкой подмосковные поля, задумчивые березовые рощи и неказистые деревеньки. Водитель Трофимыч бросил встревоженный взгляд на сидящего на соседнем сиденье, задыхающегося от жары и гнева Толмачева и участливо произнес: