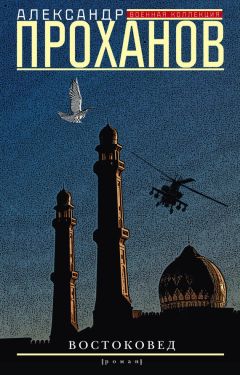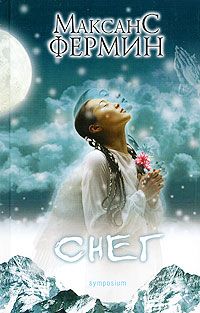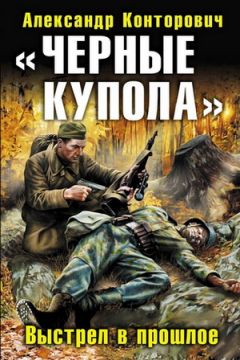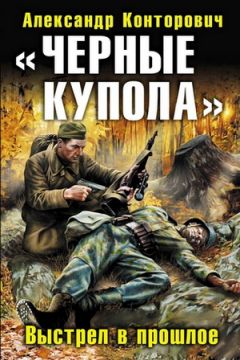– Я полковник Российской армии Торобов. Кто вы? Ваше звание, имя?
Пленный молчал, тоскливо водил глазами, не останавливая взгляд на Торобове. Смотрел на синеющую низину с дорогой, на соседние холмы с золотым монастырским крестом. Казалось, он хочет оттолкнуться от вершины, от уложенных в ряд убитых, от груды измызганных стволов и прикладов. Расшвырять в броске победителей, что угрюмо и нетерпеливо взглядывали из-под суровых бровей, ожидая, когда им вернут добычу, поверженных, лишенных воли врагов. Он оттолкнется от вершины и взмоет, полетит над голубой равниной, над монастырскими главами с золотым сверканием, туда, где тают последние снега, где весенняя лазурь в вершинах берез, где на талых опушках распускаются голубые цветы.
– Повторяю, я офицер Российской армии. Назовите ваше имя. Я сообщу российскому посольству в Дамаске. Оно вам поможет.
Пленный смотрел по сторонам, словно выбирал направление для своего броска и полета. Мимо застывших орудий с грудами исстрелянных гильз и черного с белой вязью флага. Или, огибая убитых, мимо конвоира с черной бородой и ручным пулеметом.
– Вас могут обменять или выкупить. Но для этого я должен знать ваше имя.
Пленный перестал водить глазами, остановил взгляд на Торобове и плюнул в него липкой желтой слюной. Торобов почувствовал ожог этой ядовитой слюны, которая текла по его щеке. Отерся ладонью и отошел, видя, как, стоя в стороне, смеется Зольде.
Комбат с бинтом на лбу, сквозь который расплывалось пятно, что-то сказал солдатам. Вытянул из кармана платок и постелил его на истоптанную землю, среди рассыпанных автоматных гильз. И все его бойцы достали платки, стелили на землю и готовились к молитве.
Пленные пугливо, не сразу поднялись, стали стелить платки. Конвоир с пулеметом отложил оружие и постелил клетчатый мятый платок. И все, кто был на горе, стали молиться. Опускались на колени, падали ниц, касаясь лбами горы, разом разгибали спины, обращали ладони к небу, вставали и вновь, словно на них дул ветер, сгибались, опускались на колени, прижимались лицом к земле. Молились раненые, из которых сочилась кровь. Молился комбат, сжимая от боли глаза. Молились операторы, и у того, что был в артистической синей блузе, при поклонах вспыхивала в ухе серьга. Молился Зольде, постелив цветастую ткань. Оставались стоять Торобов и пленный советник, на лице Торобова горел ядовитый плевок.
Он смотрел на молящихся, которые недавно убивали друг друга, визжали и кружили в рукопашной, падали на землю, на которую теперь постелили молитвенные платки. Разделенные ненавистью и убийствами, они молились единому Богу, Который любил их всех, присутствовал в каждом, взращивал от первых младенческих дней, материнских сосцов, одаривал счастливыми утренними пробуждениями, когда мир кажется перламутровым, любимым и любящим и Бог окружает их нежностью и обожанием. Они взывали к Творцу, моля об одном и том же. О продлении жизни, избавлении от ран и страданий. О том, чтобы Творец простил их прегрешения, ожесточение сердец, забвение милосердия. И Творец в бездонной синеве слышал их всех, каждому посылал в сердце луч света.
Торобов своей страдающей душой, своей слезной верой ждал, что воины, прозревшие в молитве, бросятся друг другу на грудь, станут обниматься, брататься, друг перед другом виниться.
Завершили молитву, встали, бережно складывали платки, пряча в карманах. Зольде встряхивал свой клетчатый плат и что-то говорил комбату. Тот тяжелым шагом приблизился к пленным. Стал их строить, пересчитывая, тыкая каждому в грудь. Грубо оттолкнул советника. Три пулеметчика, опоясанные лентами, выступили вперед и с ходу, от животов ударили очередями, кося пленных. Те в грохоте очередей падали, с криком разбегались, а их разили пули, они заваливались, шевелились, а вокруг бурлила земля от бесчисленных попаданий.
Пулеметы смолкли, из стволов струились дымки. Пулеметчики устало отходили, не глядя на бугрящиеся трупы. Оператор в синей блузе снимал, задирая камеру к небу, словно провожал отлетающие души.
Торобов стоял потрясенный. Расстрел был ответом Творца на молитву. Пленного советника ударами прикладов гнали с горы.
– Не проголодались, господин Торобов? – Зольде приглашал Торобова к подкатившему джипу. – Еще одно дело, и нас ждет обед.
Джип, в котором ехали Торобов, Зольде и оператор с серьгой, съехал с горы. К нему присоединились два грузовика, полные боевиков. Попетляли по проселку, выехали на шоссе и по серпантину стали подниматься на одинокую гору, где стоял монастырь. Его стены казались скалистой породой, выступавшей из горы. Четверик храма был увенчан синими главками с крестами, среди которых самый большой золотился на солнце. Подкатили к монастырским воротам. Деревянные, синие, с красными разводами, ворота были закрыты. Боевики, соскочив на землю, стали стучать в ворота прикладами, стрелять в воздух, пока створка ворот не раздвинулась, и в щель выглянула седая кудрявая голова с кольчатой бородой. Боевики вытащили старика из ворот, растворили тяжелые створки, и джип с грузовиками въехали в монастырь. Двор был пуст, повсюду были клумбы с цветами, пахло розами. Над входом в собор красовалась фреска Богородицы в голубом хитоне, с золотым нимбом. Младенец испуганно взирал на шумных вооруженных людей. Вдоль длинного кирпичного здания вела галерея, и по ней пробежали монахини, похожие на пингвинов, в черном, с белыми оторочками. Они провели полную монахиню, которой было трудно идти, и ее вели под руки.
– Жирная корова, игуменья. – Зольде весело смотрел на убегавших монахинь, которые укрылись в здании. – В этом районе Сирии люди говорят на арамейском языке, на том, на котором говорил Иисус Христос. Давно хотел послушать молитву «Отче наш» на арамейском языке.
Они поднялись на ступени храма, отворили резную дверь с железным кольцом и вошли в церковь.
Бесшумно полыхали голубые, падающие из окон лучи. Золотой иконостас струился, отекал сияющими ручьями, и темные иконы, казалось, плыли среди золотых вод. Столпы были обмотаны шелком и бархатом, тяжелой, шитой серебром парчой. В серебряных, потемнелых от времени подсвечниках теплились свечи. Лампады, как волшебные плоды, алые, зеленые, синие, висели на серебряных ветвях. Было безлюдно, гулко, пахло сладкими дымами.
– Кто здесь есть? – Зольде приложил ко рту ладони, наслаждаясь гулким эхом.
Бородатые парни вытащили из-за алтаря тощего священника в клобуке и золотой епитрахили. На горбатом носу блестели очки, в них дрожали круглые от страха глаза.
– Святой отец, мы туристы. Узнали, что в вашем храме можно послушать молитву «Отче наш» на арамейском языке. Мало кому удается послушать эту молитву на языке самого Христа. Не могли бы вы ее прочитать?
Священник топтался, смотрел на Зольде черными от ужаса глазами.
– Ну что вы, святой отец! Мы проделали такой длинный путь, чтобы услышать молитву. Читайте, святой отец!
Бородач ткнул священника стволом пулемета. И тот, косясь на близкий ствол, стал читать. Слова гудели, дрожали, трепетали. Были непонятны Торобову своим древним звучанием, в котором открывалась восхитительная глубина, клубилась дивная тайна, и бабушка с умиленным взглядом, прекрасным любимым лицом певуче повторяла: «Да будет воля Твоя как на небе, так и на земле».
Оператор в синей блузе снимал убранство храма, вел камеру от лампады к лампаде, словно срывал плоды с серебряных веток.
– Какая красота, святой отец! Какое высокое переживание! Не хочу, чтобы чьи-нибудь недостойные уши слышали эту святую молитву! – Зольде выхватил пистолет и выстрелил священнику в переносицу. Проломил кровавую дыру, рассыпав вдребезги стекла очков. Священник упал головой в голубой поток света.
Пулеметчики, стянув пулеметы с плеч, разведя стволы веером, ударили слепо, не целясь. Наполнили храм грохотом, проблесками, хрустящими щепками золотого иконостаса, осколками лампад. Они стреляли с упоением, длинными очередями, ведя стволы вдоль настенных фресок, вырезая на штукатурке длинные рытвины. Торобов видел, как трясутся их молодые лица, ярко и счастливо сияют глаза, как брызжут латунные гильзы, осыпая лежащего на полу священника. В них было ликование детей, которые набрасываются на сложенные из кубиков замки и разносят их, повинуясь первобытной жажде разрушения. В них бурлила молодая свирепая сила, не умещалась и извергалась наружу грохочущим огнем пулеметов. Они пританцовывали, припрыгивали, напоминали колдунов в ритуальной пляске, которые совершали колдовской обряд разрушения. Вместе с ними в сумрачный, печальный храм ворвалась неистовая стихия, дробила и перемалывала мертвую скорлупу, открывая путь синему свету, который сквозь окна стремился в храм. Грохот пулеметов, хруст золоченого дерева, взрывы лампад, визги и крики стрелков расталкивали стены с закопченными фресками, и казалось, стены падут и во тьму хлынет ослепительная синева.